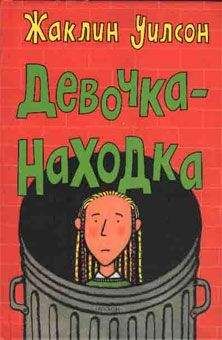Тамара Каленова - Университетская роща
С тяжелым сердцем слушал Крылов эту печальную повесть. Загублена молодость — пропала жизнь… И кто ответит за это? С кого взыщется?.. Он понимал всю отчаянность положения несчастной. «Пойти на мост» — означало крайнюю степень бедности. На мост через Ушайку возле базарной площади ежедневно стекались сотни безработных, обездоленных, впавших в сильную нужду людей. От зари до зари, нередко ночуя тут же, они толклись на мосту в ожидании случайного найма. Больно было видеть эту толпу, потерявшую надежду на то, что кому-нибудь могут понадобиться их руки…
— Я попробую вам помочь, — тихо сказал Крылов. — В управлении строящейся железной дороги, я слыхал, требуются люди…
— Спаси тя Господь, барин! — по-деревенски запричитала женщина и начала хватать его руку.
— Полноте… — отнял руку Крылов. — Приходите дня через три-четыре. Я постараюсь уладить ваше дело. А сейчас возьмите…
Отчего-то стыдясь и смущаясь, он начал совать ей в руки те немногие деньги, которые у него были.
Женщина подняла на него глаза. Загнанная, угасающая красота на миг проглянула в них…
Крылов проводил ее до двери. Посмотрел в окошко: она шла по роще крадучись, спрятав руки под серый платок, низко опустив голову.
От тишины ломило в висках.
Тихое десятилетие. Такое тихое, как перед грозой…
Храм без алтаря
Темой воскресной проповеди заслуженный профессор богословия, настоятель университетской церкви протоиерей Беликов избрал шестьдесят первый псалом Давида — о двоедушии.
— Доколе вы, враги Господа, будете налегать на человека? Вы будете низвергнуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть Его с высоты, прибегли ко лжи; устами благословляют, а в сердце своем клянут…
В этом месте Дмитрий Никанорович многозначительно приостановился, оглядел паству: все ли с должным старанием внимают? улавливают ли глубинный смысл божественного слова? Термин «проповедь» профессор богословия не особенно признавал и вместо общепринятого «я читал проповедь» обычно говорил: «Ныне я собеседовал».
Собеседовать Дмитрий Никанорович любит. В эти мгновения он искренне мнит себя народным возвестителем, наставником веры, всевидящим и всезнающим.
— Только в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасение мое, убежище мое; не поколеблюсь. Народ! Надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше; Бог вам прибежище…
Силен бас протоиерея: в ушах щекочет. Душновато от ладана. Беликов с берегов Балтийского моря выписывает янтарь — самый лучший, крошить велит не мелко-мелко, как в обычных церквях, а чтобы кусочки были побольше, позаметнее. Вот они, сгорая, и дают такой одурманивающий аромат.
Профессора и преподаватели перешептываются, оглядываются, переступают нетерпеливо — откровенно ждут, когда же Беликов кончит собеседовать и распустит по домам. На проповеди нет ни одного студента — разъехались на летние вакации, стало быть, вот и еще один зацеп, чтобы вести себя по-домашнему.
Крылов стоял в последних рядах, недалеко от входной двери. Рассматривал — в который раз! — убранство церкви. Ему нравилось это уютное, не очень обширное, но светлое помещение, алебастровые украсы по стенам в виде растительного орнамента — цветы, листья… Высокий сводчатый потолок, мягко резонирующий голоса, звуки музыки, хорового пения. Первоначально предполагалось здесь же разместить музей изящных искусств, но потом эта идея показалась странной — церковь и музей! Беликов назвал это «богохулением», и о музее забыли. А жаль. На эти просторные светлые пустоты так и напрашиваются картины в золоченых рамах. Вон как выразительно смотрится портрет Николая II.
Крылову хорошо виден портрет, единственное живописное произведение в этом помещении. Государь изображен во весь рост, в военном мундире, возле инкрустированного столика. Взгляд его, устремленный строго вперед, казалось, пронзал церковь и выходил далеко в пространство. Мало что осталось в этом взгляде от молодого цесаревича Николая, некогда посетившего Томск.
Крылов опустил руку в карман и ощутил холодную гладкую поверхность часов. Редко носил он с собою царский подарок. Не сказать, чтобы сильно берег, просто привык обходиться часами, купленными еще в Казани с первого провизорского жалованья. А нынче старые часы отчего-то вдруг остановились, и пришлось взять серебряную луковицу.
Богослужение затягивалось. Разбеседовался Беликов, не окоротить. А в Гербарии стоит посылка с семенами из Лондона. Руки свербят — разобрать бы скорее…
Крылов начал раздражаться. Говорильня сменяет говорильню. Кому это надо? Профессора не слушают, шепчутся, отвлекаются, как мальчишки. Проповедь о двоедушии. Вот оно, и двое— и троедушие, живое и многоликое! Кто повинен в том, что умные взрослые люди играют в какую-то странную игру? Матерьялисты, безбожники, собранные под расписку новым попечителем (Флоринский подал в отставку по болезни), они покорно склоняют колена и думают о чем-то своем, весьма отдаленном от происходящего. Это ли не насилие над волей и душой?!
Много раз Крылов наблюдал церковную службу в университете, но почему-то именно сейчас особенно резко бросилась в глаза ее неискренность. Может быть, виной тому сама тема проповеди, щекочущий бас протоиерея… Крылову было стыдно за себя, за своих умниц-коллег, принужденных говорить одно, а веровать в иное, за всю обстановку, ставшую такой привычной.
«Мы привыкли к двойной игре — вот в чем беда, — с горечью подумал он. — Приняли правила игры. Разучились искренности, открытости. И всех это устраивает. Меня в том числе. Приказали — стою в церкви. Не приказали — разбирал бы посылку с семенами…».
Отношения с Богом у Крылова были запутанные, сложились они не вдруг, не в один день. С детства, как и другим ребятишкам его поколения, ему внушали, что на небе есть высшее существо, высший управитель, высший судия, у которого много помощников — святых и ангелов. Он милостив, но и карает, все видит, обо всем догадывается.
Уходя из дома, матушка Агриппина Димитриевна, бывало, наказывала детям:
— Смотрите ж, не балуйте! Да не ешьте киселя без разрешения! Грех!
И ставила кринку поближе к образам — под охрану Бога.
Киселя, конечно же, всем хотелось. Дети отворачивали маломерку-икону Спаса лицом к стене и по очереди тянули через соломинку густое черничное лакомство.
Опомнившись, принимались каяться, обвинять друг друга, а ты первый! нет, ты первый слизнул… Веря во всемогущество и милосердие бога, искренно и горячо молились: Боженька, миленький, натяни шкурку на кисель!
А он молчал, сурово глядя на проказников огромными нездешними глазами, и шкурка на поверхности киселя не появлялась.
Возвращалась мать, карала не столько за то, что съели, сколько за проступок против закона божьего. Агриппина Димитриевна была очень верующим человеком, многое в ее представлении считалось виной перед господом. Врать — грех, ругаться — грех, самые сильные слова в их семье допускались почему-то лишь такие: лягуха, азиятка. Без спросу брать — грех. В постные дни есть мясо, жир, молоко, яйца — грех. Сказать «черт» — большой грех. Наспех перекреститься — тоже… «Не бойся кнута, а бойся греха», — внушала матушка. Она и слепоту, а затем и смерть мужа восприняла как наказание за то, что Никита Кондратьевич в церковь не ходил.
Потом Крылов вырос, начал учиться, и уже в Казани, в университете, он понял, что библейский старик Ягве-Элогим (господь бог) — это сказки. Материю же и пространство никто не создавал, они существуют вечно.
Еще на первом курсе он горячо спорил, раскрыв текст библии:
— Растительный мир создается на третий день сотворения мира, когда не было еще ни солнца, ни других светил! Могут ли растения существовать без солнца? Это же нелепость, господа! Тимирязев доказал, что без солнца растения существовать не могут! А водоросли? А мхи и лишайники? Как и когда появились они? Нет, господа, тот кто сочинял библию, плохо знал ботанику…
Постепенно, по мере накопления знаний он стал верить в иное божество — в науку. Читал нидерландского философа Бенедикта Спинозу, веселого француза Поля Гольбаха, желчного Франсуа Вольтера… Все они остроязычно нападали на церковь. Логика их безбожия покоряла с первых страниц. Особенно увлекались студенты Вольтером. Однако именно он оставил Крылова равнодушным. Более того, в вопросах религии он счел знаменитого просветителя двоедушным. Как можно, отрицая религию как нечто нелепое, одновременно предлагать сохранить ее в качестве упряжи для темного народа?!
Если бы небеса лишились его августейшего отпечатка
И могли перестать свидетельствовать о нем, —
Если бы бога не было, — его надо было бы выдумать.