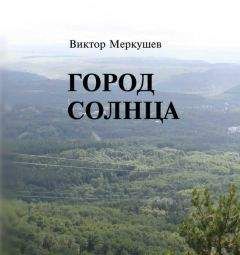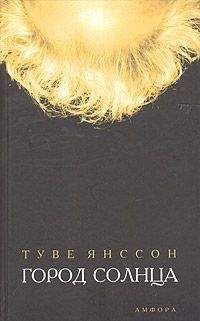Эрнст Саломон - ГОРОД
Теперь как раз на этой преданности результату настаивают силы, которые выступают против системы. И если все же должно быть правдой, что реальную власть фактов в существенной степени диктуют задачи будущего, то действительно больше нельзя еще увидеть ни одну причину, почему с этими задачами не мог бы справиться каждый, и отнюдь не исключительно представители системы. Но мы хотим государство, а вовсе не систему. Мы хотим общество, которое рационально делится на большую совокупность народа, а не на кучу более или менее случайно наскоро собранных индивидуумов, которые сжимаются вместе только продиктованными чужими властями границами и политической квадратурой круга общей взаимности интересов. Мы хотим авторитет, но не авторитет уже немного завонявшихся директоров банка и экономических лидеров, а также не авторитет стесненных правительственных советников, которые при каждом мероприятии нащупывают донный лед, не авторитет президентов и ми- нистериальдиректоров, у которых при каждом шаге из штанин сыпется известка, не авторитет видных деятелей последней премьеры Макса Рейнхардта, при виде которых нас тошнит, стоит лишь нам увидеть их лица в журналах, а авторитет мужчин, которые, как и мы, точно знают то, что движет нами. Мы хотим план, унифицированный и всеобъемлющий хозяйственный план, не распространения общественной экономической деятельности при самых разнообразных и самых произвольных точках зрения, повинующегося необходимости, не собственному инстинкту, и всегда оправдываемого препятствиями, которые все же не кроются, черт побери, нигде, кроме как в самой системе, а соединение на экономических основах, от основы земли до основы транспорта, от основы сырья до основы людей, которые уже несут в себе стремление к естественной сплоченности, через мероприятия, которые находятся в связи. И система ссылается на то, что это она так отлично все организовала? Она совсем ничего не организовала, кроме голода и себя самой, и даже это она организовала плохо. Всюду, где уже образовались естественные формы производства и общественные формы, они образовались вопреки системы. Это так, и тот, кто это отрицает, тот либо лжец, либо слепой. Если сегодня немецкая молодежь сносит пограничные столбы в Инсбруке и в Баварском лесу, то она может ждать, что произойдет, можно будет вынести все, но совсем невыносимо будет, что вы, господин старший лейтенант Бродерманн, с вашим подразделением будете стоять не в Веддинге, а в Инсбруке или в Баварском лесу, чтобы снова восстановить пограничные столбы. Ради кого? Ради империи? Ради государственного принципа? Ради системы, которая не может терпеть изменений, которое ставит на ноги недоверие тех, милостью которых и в принуждении которых она только и живет и может жить. Ведь это же не случайность, что десять лет она действовала по лозунгам других и единственный раз, когда она решилась удвоить ставку, это когда было нужно спасать американский капитал за французские деньги. Это же не случайность, что она сеет таможенный союз и пожинает Дунайскую конференцию, не случайность, что она одной рукой гарантирует валютную защиту, а другой рукой растрачивает не только свободно двигающуюся экономику, но и всю защищающую валюту экономику. Система вовсе не может иначе, определенно, и так как она вовсе не может иначе, она как раз не государство, а то, как ее по праву называют, а именно - система, и из всех ее результатов самым лучшим было бы тихо уйти прочь. Бродерманн пожал плечами, и Шаффер не был доволен Иве, но так как он привык мыслить столетиями и в современности сначала думал о будущем, вопрос о том, быть за или против системы, давно уже перестал быть для него проблемой. У него было кое-что против передовых статей, и так как он соглашался с тем, что этот вопрос действительно можно было обсуждать только либо в передовых статьях, либо с применением броневиков, он предпочитал игнорировать его совсем. Тем не менее, он отметил для себя в уме из сказанного Иве несколько тем для разговора на следующие вечера, такие темы, как сущность государства с романтической точки зрения, плановое хозяйство на основании какого общественного устройства, автаркия и децентрализованная денежная эмиссия и положение имперского банка, показались ему достаточно интересными, чтобы обсуждать их в системе или вне системы. Иве говорил: - Вы можете спокойно считать нас идиотами или преступниками, спокойно считайте нас людьми, которые не хотят ничего другого, кроме как смотреть на облака и мечтать в прелестных снах, о том, что совершается под поверхностью, посмотрите направо, и вам ничего не нужно видеть. То, что совершается, и согласно принципам, которые являются нашими принципами, и в том направлении, которое мы чувствуем как наше направление, и в работе, в которой мы, даже если мы просто болтаем, праздно сидя, полностью участвуем, это от другой анонимности, чем анонимность системы, чем анонимность динамика без тока. Потому что агитирующему воздействию в широком плане не придается больше никакая ценность, и думающие, что они не обойдутся без него, уже протянули черту целую руку. Я хочу вам сказать, почему мы не можем идти в систему, чтобы сотрудничать там, потому что мы знаем, что нельзя десять лет лгать и заключать компромиссы, не сломавшись при этом внутри. Это все просто вопрос чистоты, и не мы, а система должна принимать решение, изменится ли она полностью, до самой основы, готова ли она отделиться от всех этих либеральных, парламентских и западных связей, чтобы стать, наконец, тем, чем она, как утверждает, является, государством, или... - Или? - спросил Бродерманн. - Или, - сказал Иве, - она будет разбита в положенное время. И Бродерманн сказал: - Ну, тогда желаю вам хорошо повеселиться...
*Иве знал, что Парайгат будет ставить его перед всеми остальными из-за четкой позиции. Он не уклонялся от него, все же, он сам осознанно забросил своей репликой о романтике крючок, за который должна была зацепиться дискуссия.
Действительно тот довольно необязательный способ, с которым он встал на сторону романтики, соответствовал довольно необязательному представлению, которое у него было о ней, и пришел он от желания не уклоняться от обвинения вместо того, чтобы опровергать упреки простыми отрицаниями. Он пришел к романтике, как например, поколение, которое было младше его примерно на десять лет, пришло к футболу, он неожиданно нашел ее на своем пути как обезболивающее средство, которое сначала удовлетворяло его духовную потребность, как футбол удовлетворял им потребность физическую, он знал, что он со своим признанием в верности романтике и тому, что еще осталось нужно сделать, высказал так же мало, как мало выражает официальное утверждение о том, что игра в футбол служит закалке нации; так как прекрасное напряжение ряда воскресных вечеров, наконец, в лучшем случае, вместе с всеобщим положением ног, поставленных носками внутрь, могло бы привести к страстно ожидаемой и с ликованием встречаемой победе национальной сборной, к суррогатной победе, стало быть, то так же и его занятие романтикой, даже если он предавался ей с так сказать животной серьезностью, которая была свойственна ему, в конце концов, все же, могла привести только к вероятно охватывающей и профессионально значимой позиции, которая, однако, в общем и целом оставалась суррогатным мировоззрением, тем более что он должен был с печалью констатировать, что он, пожалуй, мог бы вжиться в духовный мир романтики вместе с опьяняющими открытиями, которые этот мир ему предлагал, мог бы с ним свыкнуться, но не мог бы в этом мире жить, так как это требовало жить от него. Он мог из смелых и наполненных более глубокой логикой, чем та логика, которая была возможна на протяжении ста лет, конструкций, как и из намеков и фрагментов романтики вылавливать связи и знания, которые совсем ничего не утратили в своей действенности, формулировать основные принципы, которые он уже долго искал с ощущением того, что они должны были бы уже закап- сулированно находиться в нем самом, следовать ходу мыслей, которые почти непосредственно вели к тому, чего требовало время, и, тем не менее, у него оставался остаток, нести который ему было неприятно. Этот остаток лежал, конечно, в совсем другой плоскости, чем та, где обычно искали аргументы те, которые называли его и ему подобных романтиками; ему мешала не недостаточная жесткость ощущения, которую якобы требовал век техники, вероятно, чтобы легче это ощущение притупить, она была в достаточной мере уравновешена большей остротой ощущений, его острота анатомического скальпеля позволяла уверенно вырезать плодотворное или бесплодное ядро из беспорядка идей, казалась Иве очень желанной, но та необходимая по всем ее предрасположениям попытка романтики позволить, в конце концов, целеустремленно закончиться всей освобожденной органической силе в ограничении, в немецком ограничении, создать порядок как, в какой-то мере, самоцель, тогда как Иве рассматривал совершенный порядок скорее как средство, чтобы если и не вырвать у неба его последние тайны, то, пожалуй, вырвать из земли последнюю ненемецкую власть. И у него, когда он оглядывался вокруг себя, тоже не было никакого повода падать духом; то, что приводило в движение время, непременно признавало его правоту, и то, что не признавало его правоту, он легко мог установить как не движущее, или отослать это в другое время, он находил самого себя в полном согласии с современностью, и он находил эту современность прекрасной, причем и то и другое должно было удивить каждого, кто его знал, и знал, как он жил. Иве на самом деле полюбил город, и именно ради его возбуждений, которые были ничем иным как духовными возбуждениями. Так он бросался в вихрь разговоров, еще гордый их всеобщей бесполезностью, разговоров, которые не обогащали его, которые даже не вели его непосредственно к нему самому, никак не служили какого-либо вида образованию, которые скорее заставляли его падать и подниматься, так что в быстром вихре прыжков от постамента к постаменту в нем загоралось все, что только могло гореть. Осознание сомнительности каждой точки зрения не могло его при этом соблазнить добровольно отказаться от соответствующей точки зрения, он никогда не знал, не упадет ли он на это раз в бездну. Однако он не падал в бездну, потому что часы самого горького отчаяния были часами отчаяния из-за него самого, а именно: не быть достойным того, что происходило вокруг него. Боль от того, что его не призвали с полным самопожертвованием, она была его отчаянием, и из нее исходила воля ко всемерному самоограничению, которое делало ценной ту безграничность, частью которой он был; это представлялось ему положением солдата, который поддерживал себя в готовности умереть за отечество, у которого даже не было военных целей. Найти самого себя означало для него узнать смысл окружающего мира. Узнать, нет: понять. Он верил себе, что он сможет понять; у него всюду была возможность устранить простой недостаток в знаниях. Если он, загнанный в угол, как, к примеру, Бродерманном, оказывался обязанным давать конкретные показания о конкретных вещах, он полностью сознавал, что он не мог высказать от себя ничего, кроме общих фраз, и если его и не утешало то, что везде и всюду люди, оказывавшиеся в такой же ситуации, чувствовали себя точно так же, то, все же, этот факт зажигал в нем, вероятно, тот единственный аргумент, который он должен был бы использовать против Бродерманна: а именно то, что к конкретным высказываниям относится конкретное задание, и, исходя из этого, противозаконность системы исключала всякую более высокую ответственность, убедительная причина для устранения системы. Желание однажды стать премьер-министром с диктаторскими полномочиями было широко распространено, и тот, кто считал это желание детским, доказывал тем самым только свою собственную абсолютную неспособность соответствовать должности премьер-министра. В те времена почти вся Германия состояла из несостоявшихся премьер-министров, и мы не можем сожалеть об этом ее положении, хотя мы и весьма далеки от того, чтобы быть демократами; так как это положение напоминает нам о романтичной мысли, что из экономии существует только один король, если бы мы не должны были приниматься за дело экономно, то мы все были бы королями. И если мы ни в коем случае также не можем идентифицировать себя с Иве и его представлениями и мнениями, мы, которые давно нашли духовный приют и сознаем, что являемся полезными и полноценными членами общества, которое удовлетворяет нас и наши надежды, уверенно можем отказаться от того, чтобы запутываться в таких бессмысленных духовных приключениях, все же, мы с симпатией следим за путем этого молодого человека, который, испытав все заблуждения и ошибки, пришел, наконец и навсегда, все же, к тому своему внутреннему форуму, который образует само собой разумеющуюся основу нашего бытия, рассматривая любое представленное заблуждение как средство к осознанию, и мы тем самым находимся ближе к методу Иве, чем мы сами были склонны предполагать. Так как все дискуссии, в которых Иве с таким большим усердием принимал участие, в полной мере имели характер монологов, при которых никакое мнение не было мнением, а все было только той стороной спичечного коробка, об которую загорается ищущий дух, и у нас, вероятно, есть причину удивляться еще больше, чем Иве, когда мы наблюдаем, какое изобилие общих предпосылок по умолчанию было в наличии, и можем, исходя из этого, утверждать, что достигнутые результаты представляли как раз не синтез бесед, а, даже если они как результаты несли кажущуюся компромиссной оболочку, полностью были дополнениями более высокого «Я», синтетическими, стало быть, только как выражение общепринятого закона, который успешно воздействовал непосредственно на каждого отдельного человека и вне связи с беседой. Давайте же поймем, по меньшей мере, обаяние новшества, которым должны были обладать для Иве те вещи, которые для нас уже давно стали нашим гарантированным богатством; давайте не будем недооценивать значение того факта, который позволял молодым людям того времени использовать, не задумываясь, людей, книги и события как пианино мыслей и чувств, с которыми они заставляли звучать композиции из своей волнующейся субстанции, фрагменты, из которых, все же, выводила себя музыка всего времени, и которые, пожалуй, все же, стоит записать здесь. И если мы занимаемся теми молчаливо имевшимися предпосылками, то для нас прояснится, какое расстояние разделяет нас с временами, когда их как раз и не имелось в наличии, и осознаем все право Иве на то, чтобы найти себя как составную часть будущего, всей нашей современности. Так что действительно были времена - и мы можем установить это без трудностей, взяв их документы из архивов - в которых нация, например, не только была отнюдь не фиксированным и точно отграниченным понятием, а даже отрицалась как явление, рассматривалась как дьявольская химера каких-то эгоистичных сил, как изобретение для обмана человечества. И ведь такими были представления умных, и просвещенных, и влиятельных людей, которые они могли открыто произносить на собраниях и писать в своих газетах, и при этом, отнюдь не боясь того, что возбужденная масса из- за такого ужасного оскорбления общего здравого смысла сразу и обычными у возбужденных масс средствами поставит их на место, вовсе не так, они, наоборот, встречали внимание и доверие, и даже те, которым мы здесь должны были бы отдать должное в том, что они высоко держали идею нации, не делали этого, в полном ощущении реальной ценности, но только считали полезным поддаться всеобщему психозу - поддерживать «химеру» как таковую или как их личное, очень далекое от нашего, представление о нации как необходимой составной части для укрощения алчных масс. Если мы все это обдумаем, то мы не сможем презирать Иве за то, что он, говоря о нации или об империи, не мог сразу и со всей ясностью представить все так бесконечно связанные с этими высокими идеями подробности вплоть до последних таких знакомых нам учреждений. Так как ему, которому повезло как бы интуитивно осознать предпосылку нации, приходилось сначала приложить все силы, чтобы определить эту предпосылку, и мы, с чувством пресыщения от владения этим, вероятно, можем по этому поводу улыбнуться, но нам следует остерегаться улыбаться по поводу той серьезности, с которой это происходило. Со все новыми наскоками пытался он охватить этот феномен, сформулировать его в словах, оказывался отброшенным снова и снова, опять оживал от великолепных предчувствий, и при каждом шаге перед новым полем, наполненным таким бесконечным изобилием возможностей, которые все время сдвигались и перегруппировывались, дополняли друг друга или же друг друга упраздняли, так что он мог бы упасть духом, вместо того, чтобы, как он и делал, черпать из этого для себя все новые надежды. Потому что то, что все было рационально связано, было другой предпосылкой, которую он почувствовал с самого начала, и как раз это сковывало его с такой большой степенью обязательства с его заданием; одна единственная ошибка должна была разрушить прекрасную божественную ткань, и дьявол каждый раз заново водил человеческой рукой. Там лежало также принуждение поэкспериментировать со всеми методами определения, и если эмпирический метод также, по меньшей мере, как корректив сохранял преимущество, то он, все же, не боялся придавать своему специфически пережитому им опыту очень широкое значение, но только он при этом имел в виду не себя, а как раз то, что это мог бы испытать каждый. Конечно, встречи для него могли здесь быть только местами стоянки, и когда он нашел у Новалиса фразу: «Немцы есть всюду, гер- манство столь же мало, как романство, гречество или британство ограничено особенным государством; это общие человеческие характеры, которые только тут и там стали преимущественно общими», ему тут же захотелось немедленно снять с этой мысли ее психологическое одеяние и - так как психология для него с самого начала означала лишь противника не только философского, а и вообще духовного - облачить ее в одеяние исторической сути. Внезапно старая мысль так получила для него новое содержание, нация, германство и культурный круг слились для него воедино, и мир оказался в порядке, который был бы достаточным для него, мог бы его осчастливить, если бы он не был слишком легко связан; так как для него осязаемой была только сила современности, как западный культурный круг, мир церкви как нации в себе, как мир еврейства, в огромных пересечениях стирались обманывающиеся границы, и вполне оправданным могло показаться постоянно приписывать к своеобразному содержанию своеобразные фигуры, приобщать к германству Шекспира и Данте, и вместо этого радостным толчком отправлять Томаса Манна на Запад, где ему и было место, даже если он и жил в Мюнхене. Одним махом решались все проблемы, социальные не в последнюю очередь, различные суждения со всех сторон соединялись в одну закрытую сеть, идеи национального коммунизма, как и идеи социального национализма, разоблачали свое таинственное происхождение как протест германства против Запада, каждая задача как бы сама по себе прыгала на свое место, и, собственно, не оставалось ничего больше, как теперь бодро выйти к публике с новой программой; но, как ни странно, для Иве и этого еще не было достаточно. Здесь без большого труда можно было сразу окинуть взглядом все политические выводы, немецкое требование сразу выходило наружу, своеобразие немецкого империализма, задача миссии, как называл ее Шаффер, но то, что было самым важным для Иве, как скрывающееся во мраке смутное предчувствие оставалось как бы за горой. И, таким образом, смелое здание должно было оставаться в его снах как в сиянии утреннего солнца; камень ложился к камню, храм строился в окрыленной архитектонике, превосходные алтари поднимались в строгих линиях, пестрые окна ловили свет, красиво распространяя его во всем сиянии по пространству, великолепное строение, которое окружало маленькое, пустое место, святыню неизвестного Бога. На самом деле все соображения - например, нужно ли рассматривать империю как статический, а нацию как динамический элемент германства, каким образом народ как биологическое единство или как душевное понятие связан с империей, как связана нация с государством - блекли перед одним большим вопросом: Бог. Здесь должен был зацепиться Парайгат, и Иве воспринял это со стыдом, не потому, что он должен был дать неудовлетворительный ответ - а кто мог бы дать удовлетворительный? - а потому что также молчание было больше, чем трусостью и ложью - оно было сомнением в смысле существования. Он нашел Парайгата в ателье. Хелена отсутствовала, и художник стоял перед большим листом с закрытыми глазами. Так они удалились в угол, и Парайгат действительно сразу, как хищная птица, накинулся на тот факт, что романтика закончилась, встав на сторону католицизма. Иве в голову пришло только слабое возражение, что это была не романтика, а скорее часть романтиков, и их переход к католицизму не обязательно лежал в сфере романтики. Он, впрочем, мог указать на сильную пантеистическую настроенность, на родство с мистикой, и на то, что как раз романтические и мистические элементы в католическом средневековье первоначально были именно немецкими элементами. Так Иве сразу перешел к наступлению, еще не уверенный относительно своей позиции, и полный глубокой печали от того, что еще существовало непосредственное внутреннее принуждение говорить об этом. Парайгат как раз в те дни перешел в католицизм, однако, он не защищал его с тем пламенным рвением, которое, вероятно, обычно мог бы разжечь этот святой акт, он соглашался с Иве в том, что, собственно, больше, чем наслаждение от средств милости, его захватила сама церковь, которая предлагала ему эти средства милости. Не то, чтобы он не смог бы верить со всей преданностью, но, и он сказал это так, как будто говорил для покаяния, почти незаметно внутри большого единства у него сдвинулся ценностный акцент. И Иве сразу понял, почему Парайгат, который недавно говорил ему о своем желании уйти в монастырь, не мог пойти на действительно единственное настоящее логически следовавшее из своего шага действие ради более высокой последовательности. Здесь то, что было внутренним принуждением, должно было бы стать бегством. Не бегством от мира, ах, подумал Иве, когда же мы уже расстанемся, наконец, с этими расплывчатыми понятиями; не бегством от мира, а вредным обманом Бога. Иве хотел дистанцироваться от Парайгата, теперь он видел, что это было возможным только на совсем другом уровне. Как Парайгат через свой переход в католицизм, так и Иве через свой постоянный поиск познавал огромное обогащение, так как каждое его действие, и каждый его шаг принуждали к новым решениям, из которых каждое решение было решением в единстве; но как раз это, что он воспринимал как постоянное благословение, постоянное пожертвование милостей, удаляло его из настоящего круга религии, приводило его из непосредственности религиозного переживания к воплощению единой идеи, для него - имперской идеи, для Парайгата - церковной идеи. Он не мог стать, так сказать, культурным человеком, в столь же малой степени, в какой Парайгат мог бы стать монахом. Потому что это означало бы мучение: быть допущенным только к интеллектуальному опыту, чтобы обмануть его моторную силу. И Парайгат узнал это. Он хотел бы мочь быть святым и мучеником; не быть, а мочь. То есть, ему было невыносимо, что земля церкви стала глухой и тусклой, и больше не носила ни святых, ни мучеников. И снова Иве понимал, что тот не хотел стать большим католиком, чем Папа, а старался кристаллизовать все мышление и деятельность к той соли, которая должна была снова подготовить почву к прекрасному плодородию. Он, как и Иве, не мог видеть христианство иначе, как собственный культурный круг с империалистической тенденцией, который, как и культурный круг империи, и тем же способом, как и тот, подвергался угрозе со стороны господствующей духовной силы девятнадцатого века. Для Парайгата было само собой разумеющимся признать, что как у христианства, так и у империи противник был один и тот же; и при непосредственной угрозе со стороны этого противника должно было сформироваться интеллектуальное сознание того, кто подвергался угрозе. Также для него, говорил Парайгат, история означала последовательность постоянной перемены формы неизменной субстанции, борьбу за господство между собственной и вырвавшейся из собственной субстанции и чуждой волей к господству. Это должно было значить, что либерализм как притязание Запада был не временным течением, а господством вечного течения на определенное время. Наконец, любое господство - это преобладание чуждого, и в его положении оно может сделать это преобладание полным, и не только в его положении, но и в его праве. Так как если право, говорил Парайгат, это непрерывное исполнение силы, то власть - это гарантия права и господство - это поручение к власти. Здесь, однако, нужно проверить, откуда исходит такое поручение. Для церкви из божественного откровения, и для либерализма - с декларации 1789 года также и для всего Запада - из самоволия человека. И для империи? - спрашивал Парайгат, - для империи из самоволия империи? Для него задача ясна, говорил он, и она должна была быть ясна для него. Церковь никогда не могла отказываться от господства, какие бы формы оно ни носило. Она могла и должна была пытаться содержать формы в чистоте, заменять застывшие и окостеневшие живыми и гибкими, противостоять каждому вторжению чужой воли к господству, и там, где не удавалось удержать бастионы перед бурной силой, отступать гибко, как уступает раненая кожа, чтобы дать зажить ране. Да, тело церкви покрыто множеством шрамов, но со времени удара ей в спину кинжалом реформации, который был нацелен прямо в ее сердце, она никогда не была в такой смертельной опасности для своего господства как сегодня, когда яд подкрадывается через ослабленные артерии. И как тогда Игнатий Лойола встал в крепких доспехах, чтобы выступить вперед ради вечного постоянного состава церкви со всем оружием своего времени, самым острым и самым превосходным оружием, которое веками сохраняло свое значение, генерал ордена, который для четырех веков был образцом всех обществ, чувствующих «органическое страстное желание к бескрайнему расширению и вечной продолжительности», духовно-светского общества, тайного или нет - так и сегодня необходимо, чтобы образовалось духовно-светское общество, для повторного спасения господства церкви, организм воинственного христианства, омоложенной и выздоровевшей церкви, с ее горящим усердием отделить, выбраковать вредные соки вместе со всем разложившимся, встать на всех фронтах, перед которыми концентрируются вражеские колонны, браться за любое задание, которое светские власти в своем ошибочном высокомерии отняли у церкви, не будучи в состоянии сами справиться с ними, и формировать из одного большого духа, который соответствует обширному заданию. Потому что церковь никогда не может отказаться определять строительство общества от фундамента до увенчивающей вершины, наблюдать за разнообразной жизнью от первого крика до последнего вдоха, и в мире нет никакого порядка, за который она не несла бы ответственности. Каждый отдельный человек, который объявляет о своей приверженности к ней, отвечает за исполнение божественного задания, и тот, кто не справится с ним, тот может, пожалуй, получить отпущение грехов у исповедника как грешный человек, но он не может получить собственное оправдание как католик. Церковь в ее строгих законах оставляет пространство, и заполнить это пространство вплоть до самого последнего пыльного угла, это задание тех, которые называют себя католиками. Все это гигантское требование стоит перед церковью, и оно на самом деле стоит ни перед кем другим, кроме нее, и если она откажется от этого требования сегодня, то она откажется от своего господства навечно. Только в наивысшей опасности зародыш победы будет освобожден новым порывом, и никогда еще надежда и опасность не были так велики как сегодня. Необходимо католическое действие, разумеется, такое действие, которому не придется больше вступать с кем-то в союзы, потому что оно чувствует слабость церковной позиции господства, но действие, носитель которого является носителем возрождения и знает о силе возрождения, так же как и Общество Иисуса тоже было носителем возрождения и в то же время организатором атакующей силы. И так как перед каждым отдельным человеком стоит это задание, то оно также для каждого отдельного человека начинается как требование дня в его сфере жизни. Каждый отдельный человек должен принять решение, и он определяет свою позицию; и если он - немец, то это немецкая позиция, то есть, та позиция, к которой ближе всего стоит самое большое задание. Так как здесь лежит смысл империи и только здесь: исполнить божественное поручение, которое передавалось и снова должно передаваться через церковь; выполнить то задание, которое когда-то было уже поставлено, и выполнить которое не удалось. Он не понимал, - говорил Парайгат, - как иначе могла бы быть основана империя. Постоянно ли такое задание или нет? И не значит ли вовсе его возврат одновременно и отказ империи от самой себя? Факт в том, - сказал Парайгат, - что первая и действующая до сегодняшнего дня форма немецкого содержания сознания, империя, возникла не непосредственно из типично- немецкой субстанции. Она называлась Священной Римской Империей Немецкой нации; была христианской, универсальной и только данной немецкой нации. Потому для немца возможно ссылаться на империю, если он признает направление и величину задания, и ищет сегодня новые формы, которые позволят церкви снова дать задание немецкой нации. Но для немца едва ли возможно ссылаться на империю, исходя лишь из самовластия империи; потому что таковое никогда не существовало. Действительно ли никогда не существовало? - спросил Иве, - или оно скорее пользовалось священным и римским, христианским и универсальным как одеждой, оболочкой, которая оказывалась то слишком широкой, то слишком узкой для имперского тела? Ссылаться на самовластие империи, это значит, ссылаться на собственную религиозность, и тут встают свидетели от Экхарта до Якоба Бёме, от Лютера до Ницше, как те ищущие, в которых жило божественное предчувствие. И их пути поисков, их религиозность, - сказал Парайгат, - определялись, все же, в каждой мысли всемогуществом христианской идеи, католичеством; является ли сам протест уже знаком самовластия? Мы, несомненно, должны остерегаться исследовать это по критериям успеха, но со времен Макса Шелера невозможно исключать успех как этический момент реформации, и в соответствии с ним мы должны измерять то, что произошло из нее. И даже если Лютер напал на Бога с ударом грома, то это был Бог христианства, и Лютер этим дал Лойоле возможность, спасая церковь, привести ее к новому величию. Если германство - это культурный круг, который воплощается в империи, то церковь - это христианский культурный круг, и определили его христианские ценности. Это невозможно отрицать; но возможно отрицать христианские ценности как таковые; невозможно отрицать христианскую традицию, римскую традицию империи, но возможно позволить сегодня империи начаться снова, немецкой империи как первого начала немецкой истории, и если она не может отказаться обосновывать свой смысл божественным поручением, то Бог должен еще раз появиться с ударом грома на немецкой земле, и на этот раз - немецкий Бог. И здесь вопрос, не должен ли он снова воспользоваться империей для нового протеста. - Для народно-национального протеста, разумеется, - сказал Иве, - для протеста немецкой души против христианской, которая питает себя в происхождении из иудейского духа. Но Парайгат не подхватил эту реплику, и Иве сказал, что он согласился бы, что все дело было в том, насколько удалось бы, выходя из германства, пресечь дух противника в корне; то, что с объединенной философией империи, с ее симфилософи- ей, если использовать выражение Шлегеля, империя встанет и падет; что недопустимо вытаскивать и связывать эту философию только из немецкого духовного богатства, так как это свелось бы, в конце концов, все же, только к вопросам интерпретации. Он согласился бы со всем этим, и ему совсем не пришло бы на ум отыскивать пути, которые вели к религиозным формам языческого древне- германского прошлого, то, что из этого прошлого все еще доносится до нас, попадает в наше исконное прачувство не в религиозном, и не в историческом смысле. Но именно так как собственно формирующей историю силой для немецкой нации было христианство, тенденция его содержания вышла из немецких видоизменений христианства. И эта тенденция в ее главных чертах действительно достаточно единообразна, чтобы с нее можно было считать предчувствие собственной системы мира. Если в политическом плане она была направлена против доминирования Рима, то в духовном плане против мысли о христианской нравственности, то есть, о свободе воли человека, - сказал Парайгат, - и нам это ничем не поможет, если мы решимся на самую большую историческую демонстрацию, в конце концов, речь идет о решении отдельного человека. Подкупает мысль поразить христианскую сущность в ее центральной сути, отрицать грех, вину; приобщать к милости то, что исключила из нее церковь, природу; позволить человеку и природе действовать в единой божественной взаимосвязи, и что бы ни происходило, оно действует в Боге и воплощено в нем, эта мысль подкупает, и она не нова, я с этим соглашусь. И если империя когда-то видела себя покрытой христианством, однажды с запада, однажды с востока, то, поистине, нельзя не понять, почему невозможно было бы поменять Иерусалим на Мекку, авторитет Папы на непосредственную связь Мухаммеда с Богом. И действительно, говорил он, это ведь, все же, чисто западное суеверие: выводить из факта исламского иммунитета против благословений западного мира то утешительное утверждение, что идея кисмета, судьбы, якобы вела к фатализму; почему бы, пусть даже если больше не считается необходимым преодолевать Зло, и не быть действительно испытанию, проверке в мире, в полной мере актом героического характера? Но что было бы невозможно при отрицании нравственного принципа, так это частичное участие отдельного человека в каком-либо порядке; то, что пропало в империи, было империей, царством объективного духа, общество. - Так как... ведь, - сказал Иве, - ведь так не должно быть. Речь идет как раз об испытании в мире. Как раз это задано нам, и мы несем ответственность за это. - Ответственность означает, - сказал он беспокойно, так как вошла Хелена и без слов, и, не здороваясь, прошмыгнула мимо них, - ответственность означает отвечать за свои действия в отношении последствий, за все действия и в отношении всех последствий. Что там у Хелены? подумал он. Она исчезла за занавесом, который отделял ателье от маленькой кухни, и Иве слышал, как она долго и основательно мыла руки. - Испытание в мире означает, - сказал Иве, - что у отдельного человека ничего не отбирается из его влияния на содержание его действия. - Что там у Хелены? - спросил он. Она одним махом бросила пальто и шляпу в угол и подошла к Иве. Но, немного не дойдя до него, она повернулась быстрым, гневным движением и с жестким цоканьем каблуков прошла по всему ателье. Художник почти не отвлекся от своей работы. Иве следил за Хеленой взглядом. Понятие свободы воли, - сказал он, - Хелена! Она внезапно стояла прямо перед его коленями и уперлась руками о стол. - Вы все разговариваете, - сказала она и подняла плечи. - Вы разговариваете, - сказала она, и тон самого ледяного презрения ударил Иве как кнутом по лицу. Они пристально смотрели друг на друга, лоб Хелены превратился в переплетение морщин. - Вы разговариваете, - крикнула она, и ее дыхание жарко ударило в рот Иве. Боже мой, почему вдруг эта ненависть, подумал Иве и почувствовал, как его кровь, устремляясь из ставшего бледным лба, подгоняемая диким биением его сердца скопилась у него в шее. - Ну, и говорите дальше, - произнесла Хелена сквозь сжатые зубы и процокала каблуками по а