Юрий Слезкин - Брусилов
Вот что поразило Игоря и вместе с тем придало смелости — его появление не может смутить и застать врасплох главнокомандующего.
Игорь сделал еще шаг и сказал, как обычно, когда входил в кабинет по срочному делу или по вызову:
— Я тут, Алексей Алексеевич.
Брусилов на голос повернул голову. В лице его не отразилось ни тревоги, ни удивления, ни гнева. Все так же лежала на нем печать сосредоточенности и напряжения мысли, в глазах струился мягкий свет.
— А, это ты? — сказал он. — Конечно, прислали? Конечно, ищут?
— Прислали, Алексей Алексеевич. Ищут, — ответил Игорь с улыбкой.
— Ну, ничего, садись. Время еще терпит… я тут кой-чего не додумал…
Игорь не посмел объяснить свой приход обстоятельней. Он понял, что это было б не к месту, и послушливо сел наземь у пенька.
Брусилов не спеша докрутил вертушку, помуслил, вставил в мундштук и закурил.
— Вот, читал Пушкина… ты очень кстати, послушай. Уместные строки… Впрочем, у Пушкина, что ни открой, — звучит к месту. На каждое чувство, на каждую мысль. Вот…
Мы вместе сведены судьбою;
Садись и выслушай меня…
Улыбка шевельнула тонкий ус Брусилова. Не глядя, Алексей Алексеевич нащупал пальцами плечо, потом голову Игоря, скинул с нее фуражку и потрепал по волосам. От этой ласки Игорь даже зажмурился. Глуховатый голос продолжал;
Руслан, лишился ты Людмилы;
Твой твердый дух теряет силы;
Но зла промчится быстрый миг:
На время рок тебя постиг.
С надеждой, верою веселой
Иди на все, не унывай;
Вперед! мечом и грудью смелой
Свой путь на полночь пробивай…
Голос смолк. Игорь открыл глаза, благодарно глядя на Брусилова. Ему показалось, что строки эти прочитаны ему в подкрепление, говорят о нем и Любиньке.
Но, вглядевшись в глаза Алексея Алексеевича, он догадался, что ошибся, что за пушкинскими строками таится что-то большее, значительное, на что хочет указать ему Брусилов, а может быть, повторить самому себе. Смущенно Игорь шевельнул плечами, выпрямился. Рука Алексея Алексеевича упала на раскрытую книгу. Иволга, пронзительно и часто засвистав, сорвалась с вершины дуба и мелькнула в чащу.
— Народ, если хочет быть великим, непременно должен верить в свое величие и уважать себя, — проговорил наконец Алексей Алексеевич.
И чутье подсказало Игорю, что ни приход его сюда, ни разговор, ни чтение Пушкина не отвлекли командующего от какой-то одной мысли, что с нею он не расстается и все связано с нею, она сама рождена той работой, какой полон он все эти дни.
— И наш Пушкин правду этого всем сердцем чуял. В первейшую заслугу ставил себе, что чувства добрые лирой пробуждал… Пушкин… он, к сожалению, редкий у нас талант, с таким убеждением… Один, пожалуй, он сознавал, что нужно «собрать в кучу» все хорошее в русской жизни, чтобы умилить читателя, растрогать, благородно взволновать и заставить полюбить невидимый дух народа нашего, воочию оглядеть могущество его и красоту… Пушкин не успел до конца справиться с этой задачей, вспомни его неосуществленные замыслы… Его дополнил Лев Толстой «Севастопольскими рассказами», «Войной и миром», а дальше соблазнился духом не жизненной правды, а идеальной, всегда исторически лживой… Ты скажешь, что современность неблагоприятна для всего высокого и великого, но это ложь. По мелкому и низкому надобно бить, конечно! Но именно потому, что высокое и великое всегда в народе живо. Ударять по злу надо, подымая высокое. Потребность в священном и великом не должна погасать в народе, достойном величия. Народ должен быть аристократом от верхов донизу. Это трудно, но осуществимо. Вспомни гомеровского богоравного свинопаса! Разве мы теперь не видим его на поле битвы? Ты правдиво изобличил зло в своем письме, Игорь, — добавил Брусилов и снова потрепал его по плечу, — именно потому, что не забыл о добром в русском человеке…
И тотчас же, подняв голову и насторожившись:
— Ты слышишь?
Игорь тоже насторожился. Согласный строй лесного хора нарушился внезапно. Пронзительно вскрикивая, вихрем пронеслись, сомкнувшись в стаю, черные дрозды, затихли иволги, послышался хруст ломаемых веток, заржал конь, вкруговую по лесу пошел гомон.
— Так и есть! — вскочив, вскрикнул Игорь. — Это за вами! Казаки…
— Целый взвод, — спокойно подсказал Брусилов.
Он запрятал томик Пушкина и кисет в карман, поднялся, одернул по-солдатски рубашку, подтянув ее в складку у ремня на спине, надел фуражку. Усмешливые огоньки пробежали по глазам, и, взглянув на часы у запястья, он промолвил:
— На целых десять минут опоздал. Но какой чудак все-таки распорядился погоней?
Из-за орешника на поляну выходили казаки, держа в поводу коней.
Распорядился его высочество Михаил Александрович, — поспешил объяснить Игорь.
— А-а! — протянул Алексей Алексеевич с едва уловимой иронией. — Ну, понятно…
И быстрым шагом вышел на поляну, навстречу казакам.
XXI
Нет, Алексей Алексеевич не отдыхал, сидя в роще, не отвлекался за чтением «Руслана и Людмилы», Пушкин помогал командующему в его полководческой работе, как все, что попадалось теперь в поле его зрения.
В этом убедился Игорь очень скоро на личном опыте, едва лишь выехал из штаба и попал на места работ — на передовую, в прифронтовую полосу, в резервные части. Брусилов направлял его с другими офицерами своего штаба во все концы многоверстного фронта. Пришлось поездить и в поездах, и на машине, и верхом, случалось пробираться пешочком по наезженным тропам, перепрыгивать с кочки на кочку по Пинским болотам…
С каких только мест в те дни Люба не получала писем от него! Из Пинска, из Сарн, из Олевска, из Ровно, из Шепетовки, из Тарнополя, из-под Черновиц, отовсюду, где можно было на минуту присесть, набросать несколько Строк, запечатать их в конверт с уже готовым адресом, написанным самой Любинькой. Она снабдила мужа запасом конвертов с собственным адресом и маркой: «Почтовая станция Улла, Витебской губерний, имение «Стружаны», ее высокоблагородию Любови Прокофьевне Смолич». И каждый раз, вынимая из походной сумки такой конверт, Игорь не мог без растроганного волнения не перечесть этот адрес, эти старательно выведенные слова «высокоблагородие» и «Смолич». Он знал, как втайне наивно гордилась ими жена, его Любинька. Он знал существо ее гордости, так далекое от тщеславия. Он знал, как верит она ему и чего ждет от него. И это познание удесятеряло его рвение. Не обо всем можно было писать жене, и все же скупые строчки только тогда удовлетворяли Игоря, когда в короткую строку: «Работаю и счастлив, что дела идут на лад» было вложено сегодня то, что вчера удалось добросовестно и горячо провести в жизнь…
Любинькины письма ждали его в штабе фронта. Иной раз их накапливалось по десяти, по дюжине. Они все были за номером, чтобы не спутать и читать по порядку. Лежа у себя на койке, Игорь так и читал их, по порядку. Не в пример его письмам, Любины письма были пространны, лиричны, полны описаний природы, с которой Люба впервые столкнулась так близко и надолго, так самозабвенно отдалась в своем одиночестве ее делительному очарованию.
Весна открылась и Игорю и Любе одинаково животворяще и полно. В узких пределах деревенского уклада, в имении своей свекрови, Люба с такой же пристальной строгостью и счастливым волнением отдавалась работе, происходящей в ней самой, в глубине ее физического и духовного существа, с какой Игорь поглощен был своим воинским долгом. Так же как Игорь, несмотря на пространность своих писем, Люба только мимоходною фразой: «Я чувствую себя очень здоровой и полной сил» — выражала то, что было для нее в те дни всего значительней и священней…
Удаленные на сотни верст друг от друга, тревожась друг за друга, тоскуя по близости, так быстро прерванной, и Люба и Игорь в эту весну, как никогда раньше и вряд ли когда-нибудь после, почувствовали себя живыми и нужными жизни, людям, друг другу. Вот почему разлука не истощала их, а напротив того, удесятерила их силы и веру. Это не мешало Любе каждый раз всплакнуть над скупыми строками мужа, а Игорю после чтения жениных дневников долгие часы ворочаться на жесткой койке без сна…
Впрочем, с Игорем случалось такое редко, только в короткие наезды его в штаб фронта. Подготовка к прорыву поглотила его без остатка.
Работа шла согласованно, обдуманно и по возможности приглушенно.
Во всем и всеми соблюдалось главное условие успеха атаки — скрытность и внезапность. Таков был приказ главнокомандующего, и он стал законом для каждого — от генерала до рядового. Тысячу раз прав Мархлевский: закон товарищеского, артельного согласия в работе всегда был законом рабочего человека, но теперь он провозглашен обязательным и для генералов.


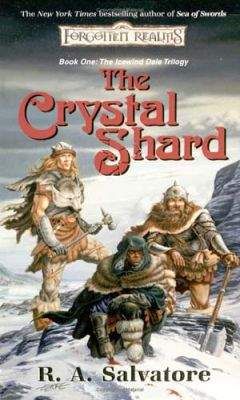
![Роберт Сальваторе - Магический кристалл [Хрустальный осколок]](/uploads/posts/books/64264/64264.jpg)
