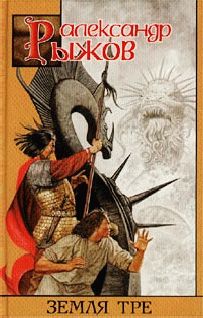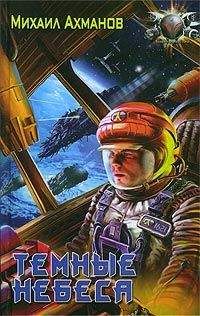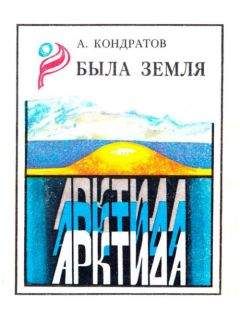Марк Алданов - Повесть о смерти
Вдали показались светлые куполы Обсерватории. Их вид всегда его успокаивал. Выходя из кареты, он оступился и вдруг почувствовал себя очень худо. Это случалось с ним всё чаще: иногда он останавливался на улице и садился на тумбу, на выступ стены, на ограду садика. Врачи считали его тяжело больным человеком: ему в самом деле оставалось жить недолго. Он лечился, но в меру; при всей своей непоколебимой вере в науку, к врачам относился благодушно-иронически.
Старый привратник почтительно отворил дверь и поклонился. Он смущенно сказал: «Bonsoir. Tout va bien?» и вошел во двор. Ему было совестно перед стариком, — всё-таки бросил Обсерваторию, — несколько совестно и за свое правительственное величие, за полагавшийся министру экипаж, за прекрасных лошадей. Прежде у него никакого экипажа не было; впрочем, он и теперь часто пользовался омнибусом и никак не с тем, чтобы удивлять этим людей. Был демократ по природе, особенно в бытовом отношении.
Он прошел по слабо освещенному фонарями двору, стараясь скрыть, что чувствует себя совсем плохо. Но в кабинете тотчас тяжело опустился в кресло. До лекции еще оставалось много времени. План ее у него был готов, говорил он всегда гладко, хорошо и просто. Сам шутливо объяснял, что, войдя в аудиторию, прежде всего выбирает в публике человека с наименее умным лицом и затем не сводит с него глаз: если этот понимает, то вероятно понимают и все другие (одному из выбранных им слушателей такое внимание чрезвычайно польстило, и он написал Араго благодарственное письмо).
В этот вечер он читал лекцию о кометах. С ними у него была связана некоторая личная неприятность. Не очень давно в небе появилась комета, занесенная им в каталог под номером 164. Ее появления никто не ждал. Этому могли удивляться только люди, не знавшие, что точно расчислены всего лишь четыре кометы во вселенной. Но, по странной случайности, вышло так, что впервые эту комету заметили в небе не ученые при посредстве телескопов, а простым глазом простые люди, — чуть только, в их числе, не какие-то ночные гуляки: астрономы всех обсерваторий мира ее пропустили. Разумеется, это подало повод для насмешек в газетах. Посмеивались и над Араго, — оттого ли что он был известнее других, или же потому, что у него всё-таки были политические враги: они его не травили, но при случае посмеяться над знаменитым человеком, принадлежавшим к враждебной группе, доставляло некоторое удовольствие. На самом деле он ни в чем виноват не был: при первом появлении кометы небо в Париже было совершенно закрыто тучами, и наблюдения были невозможны. Однако не заметили кометы № 164 и другие знаменитые астрономы, Бессель в Кенигсберге, Струве в Пулкове, Эйри в Гринвиче. Все они были несколько сконфужены этим странным происшествием.
Араго привык к тому, что о кометах ему задавали нелепые вопросы. Иногда люди его спрашивали, что может предвещать комета № 164. Ведь комета 1811 года появилась на небе как раз перед великой франко-русской войной. Комета Галлея при своем первом появлении вызвала общую панику: турки завоюют христианский мир. Еще какая-то комета возвестила близкую смерть Галеаццо Висконти. Когда Араго бывал в хорошем настроении, он с улыбкой отвечал, что войны при Наполеоне бывали и без комет, что Византия была занята турками до появления кометы Галлея, что Галеаццо Висконти умер скорее всего от страха, вызванного кометой, и что вряд ли всё-таки небесные тела опускаются и до возвещения незначительных событий в не очень больших городах Италии. Когда же он бывал настроен дурно, то пожимал плечами, раздраженно говорил, что он не астролог и ерундой не занимается, и советовал спрашивавшему пойти к гадалке. Но, случилось, кто-то на лекции спросил его:; если эта комета появилась в совершенно неожиданное время в совершенно неожиданном месте и если ее путь в прошлом и будущем неизвестен, то какова гарантия в том, что она не столкнется с землей и не вызовет гибели всего человечества?
Этот вопрос застал его врасплох. В самом деле ничего невозможного в таком событии не было. Он применил к вопросу теорию вероятности. Выходило, что у Земли было 280.999.999 шансов из 281.000.000 избежать столкновения с кометой. При новой встрече с недоверчивым слушателем, Араго сообщил ему результат и добавил: «Любой разумный человек, как бы он ни был привязан к жизни, не станет волноваться из- за столь ничтожной вероятности гибели». — «Да, но всё-таки остается печальный 281.000.000-ый случай», — ответил слушатель-пессимист.
Почему-то этот разговор ему вспомнился и теперь. Он подумал, что для него, при его тяжелой неизлечимой болезни, вероятность очень близкой смерти неизмеримо больше. «Хорошо было бы умереть без долгих страданий. Это возможно. А нет, так что же делать?»
До начала лекции еще можно было поработать. Немало людей уверяло, что они считают «вычеркнутыми из жизни» часы, проведенные без дела (только самые искренние, Руссо, Толстой, порою говорили, что истинное счастье находили в праздности). Но Араго действительно праздности совершенно не выносил. Следовало ответить на несколько писем. Как для большинства знаменитых людей, письма для него были настоящим бедствием.
Написав письма, он отворил окно. Вечер был изумительный, — серебристая громада Млечного Пути как будто требовала наблюденья. Струве только что прислал ему свою новую книгу «Etudes d'astronomie stellaire». Русский ученый высказывал очень интересные мысли о гипотезе Гершеля. «Да, лучше было бы смотреть на это, чем слушать весь их вздор», — подумал он, разумея заседание Временного правительства.
Араго засветил фонарь и прошел в залу большого телескопа. Лучшие часы своей жизни он проводил в этой зале. Знал в ней каждый уголок, наощупь в темноте находил любой рычаг. Так и теперь привычными движениями привел в движение то что следовало, поставил фонарь на пол у вращающейся кушетки под телескопом, придал ей нужное положение, затем снял сюртук и лег. При этом опять почувствовал сильную боль и опять сказал себе, что не надо обращать внимания. «Всё это неважно!.. А если сейчас и умру на этой кушетке, наблюдая небо, то что же может быть лучше и почетнее такой смерти?..»
Он медленно повел телескоп вдоль созвездий. «Кассиопея… Персей… Возничий… Близнецы… Телец… Орион… Носорог… Большой Пёс… Корабль Арго… Центавр… Южный Крест»… На Южном Кресте особенно хорошо был виден темный провал, называвшийся Угольным мешком Гершеля. Безошибочная память Араго подсказывала ему чудовищные, непостижимые, недоступные и воображению цифры. «17.206.400.000.000.000 миль» (он еще иногда вел счет на мили). «А за этим провалом какие-то миры без звезд, уж совсем неведомые и непонятные… Да, в свете этого, „объективно“, инцидент с генералом Пети и вся наша революция не имеют большого значения. Но какое дело до этой „объективности“ живому человеку — и даже умирающему? Очень дешева и слишком удобна мудрость разных Экклезиастов. Идеи надо защищать и в большом, и в малом, отлично зная ничтожность дела». Действительно, несмотря на свою старость, он умел защищать свои идеи. В пору парижских баррикад химик Дюма писал о нем: «Поведение его в эти дни опасности было необыкновенно твердо и мужественно: Араго под градом пуль бросался на баррикады с такой решимостью, что очевидцы думали, будто он ищет смерти».
Он остановил телескоп и задумался над гипотезой Гершеля, не сводя глаз с Южного Креста и с черного провала. По его мнению, ничего не могло быть прекраснее и величественней этого зрелища. В Англии он когда-то видел картину Тинторетто: «Млечный Путь». Смотрел на нее с недоумением и с улыбкой. «Простоватый художник верно думал, что его Юнона, с выходящими из горла звездами, придаст э т о м у поэзии!..» Араго не понимал и не чувствовал искусства. В его огромной библиотеке, проданной с аукциона после его смерти, оказалось только девятнадцать художественных произведений; и едва ли он читал эти книги Камоэнса, Боккачио, Бенсерада: вероятно, они были поднесены ему в дар издателями. Музыка вызывала у него смутное беспокойство: она была точно вызовом разуму и логике. Но его взгляд естествоиспытателя замечал и в картинах то, чего рядовые наблюдатели не видели. Ему показалось, что и нарисованы у Тинторетто павлины, орел, руки Юноны не очень хорошо. А главное, было бессмысленным желание приукрасить Млечный Путь.
«Все они, конечно, лгали, очень поэтично и очень наивно», — думал он. — «Ни на какой Корабль Арго никто после смерти не попадет и вообще больше ничего никогда не будет. Что же тут страшного? Ровно ничего. Я пожил достаточно, знал в жизни больше прекрасного, чем худого, сделал немало, увеличил то, что называется сокровищницей знания. Конечно, если б еще пожил, мог бы еще кое-что сделать, но я и так далеко перешел через среднюю продолжительность человеческой жизни. Вместо меня для науки будут работать другие, наука бессмертна. Они помянут меня добрым словом и не в одной Франции: я работал и для всего человечества. Делал это как мог и умел также в политике; и здесь работал на пользу людям. Были, конечно, ошибки, о них тяжело вспоминать, но ничего очень дурного я не сделал. Быть может, главная ошибка была в том, что я рассматривал человека хоть отчасти как логическую машину… Скоро похоронят, забудут не так скоро, да еслиб и забыли, то нет большой беды: я ничем не лучше тех, кого забудут на следующий день. Никакой другой жизни не будет, и в этом тоже нет ничего особенно страшного. Боюсь смерти? Нисколько не боюсь, — совершенно искренне ответил себе он. — Не то, чтобы надоела жизнь, уж наука-то нисколько не надоела, напротив люблю ее всё больше. Но я устал, пора отдохнуть. Это ведь как сон. Правда, без пробуждения на следующий день. Однако, когда ложишься спать, разве очень думаешь о том, что завтра проснешься? Просто хочется спать». Он вернулся к гипотезе Гершеля и к соображенияхм Струве.