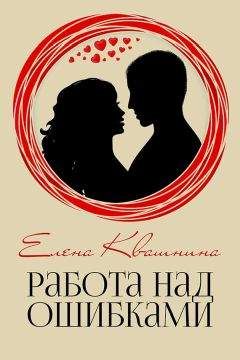Иван Фирсов - Федор Апраксин. С чистой совестью
— Тяжела ноша, Петр Лексеич, как поспеть всюду?
Петр рассмеялся:
— Сладишь. Помощничков своих запряги. С кораблями Крюйс и Рез управятся, на стапелях Федосей с ватагой, Осип Най, вскорости толковый малый Козенц из Англии прибудет.
Петр выдернул топор из обрубка бревна, давая понять, что разговор окончен.
— Ну, полно, погрелись на солнышке. Через неделю будь здеся. Божий корабль к спуску готовить будем. Он и твой первенец на Воронеже…
На Дону звенели топоры, визжали пилы, грохали молотобойцы в кузнях, строгали, утюжили уходившие к ледовому припаю полозья стапеля, где высилось «Божье предвидение». Рождение первого российского корабля задело и столицу, в Москву пришел царский указ: «В нынешнем 1700 году велено ехать на Воронеж к Вербному воскресенью боярам и стольникам…» Да не одним думным мужикам, а с женками и детьми старшими да снохами. Силой вытаскивал царь московскую знать из теплых насиженных палат, сдергивал пелену с глаз, чтобы не только показать диковинное, а и приобщить к своим далеко идущим замыслам…
Полтора года тому назад Петр вернулся из странствий по европейским странам. Общался с курфюрстами, королями, цесарем. Европейские властители присматривались к царю из далекой и, как казалось, дикой Московии. Скептически посмеивались про себя, прислушиваясь к речам увлеченного своими замыслами молодого венценосца…
Но тут аккредитованные в Москве посланники и резиденты получили приглашение царя присутствовать на спуске первого корабля, построенного по русским чертежам русскими кораблестроителями.
Приглашая иноземцев в Воронеж, Петр преследовал и другие цели. Перед Вербным воскресеньем Воронеж гудел как улей.
После зимовья работные люди тянулись к теплу, на солнцепек. Многие сотни мастеровых сновали по верфи, расположенной под горой на острове, в излучине старого русла Воронежа. На одних стапелях постукивали конопатчики, на других с криком и грохотом рабочие вытягивали на палубы через блоки, увесистые отесанные бревна. То и дело испуганно взмывали в небо стайки грачей и перелетали на противоположный, нагорный берег, в более тихие места. Но и здесь, в обустроенном и разросшемся за последние годы посаде, в эти дни наблюдалось необычайное оживление. По раскисшему бездорожью улиц и переулков скрипели боярские кареты, покачивались на ухабах колымаги многочисленных стольников и спальников, поименованных в царском указе. Каждый боялся опоздать к сроку, но оказалось, что спешили понапрасну. В этом году весна задержалась и половодье запаздывало. Миновало Вербное воскресенье, а кромка воды только-только подступала к стапелю, где красовалась «Предистинация».
Петр не давал скучать московским гостям. Почти каждый вечер затевался праздный ужин в деревянном царском дворце или палатах воеводы. Правда, на всех приезжих мест не хватало, приходилось уступать по старшинству, ожидать своей очереди.
Царь продолжал днем работать на верфи, а вечерами появлялся на званых торжествах. Пригласил его и Апраксин.
— Петр Лексеич, покоя не сыщу, звание свое, адмиралтеец, осветить бы надобно. Пожалуй ко мне отобедать.
Петр вытер вспотевший лоб, прислонился к фальшборту.
— И то пора. Токмо пригласи наших из кумпании, штоб был Шафирка, и непременно Павла Гейнса повести, посланника датского.
Апраксин послал Фильку по дворам, разыскивать Головина, Ромодановского, Стрешнева, Нарышкина, Голицына…
Гейнсу приглашение передал с глазу на глаз.
Пока собирались приглашенные, Головин вполголоса переговаривался с хозяином дома:
— Намедни прискакал гонец из Лифляндии, привез ведомости от Августа. Саксонец, вишь, не дожидаясь нас, норовит первым куски полакомее отхватить, на Ригу метит, а может, и далее.
Апраксин недовольно засопел:
— Выходит, Август государя объегорить задумал?
— Так получается, Федор Матвеич, — беспокойно заколыхался тучный Головин, — нам-то починать невмоготу, покуда Украинцев с турком замирения не обговорил…
За столом Петр заставил Апраксина осушить до дна большой серебряный кубок, наполненный до краев водкой.
— Пускай твоя новая служба полнится делами славными, как сей сосуд, — смеясь, проговорил царь.
Спустя полчаса он вместе с Гейнсом и Шафировым удалились в заднюю спаленку, плотно притворив за собой дверь. Беседа за закрытыми дверями тянулась часа два… О чем толковали в комнатке, сидевшие за столом только догадывались. Датский посланник Павел Гейнс доложил довольно подробно об этой встрече своему королю Фридерику IV. «Царь сказал, более он осуждает польского короля и его меры, и спросил меня, можно ли одобрить его поведение, когда вместо того, чтобы лично присутствовать при предприятии такой важности, польский король остается в Саксонии, чтобы развлекаться с дамами и предаваться там удовольствиям. Я из почтительного респекта мог отвечать только выражением лица, высказывавшим желание чтобы оно было иначе, но царь продолжал мне говорить, что он не знает, как быть с договором с польским королем. Он кажется боится, и даже говорил об этом прямо, что после того как польский король, овладев Ригой, если это удастся, как бы этот король не заключил сепаратного мира и не оставил своих союзников, впутав их в войну. Я ответил, что Ливония, кажется, стоит труда и, чтобы успеть в этом, необходимо содействие царя. Он согласился, но заявил, что прежде, чем он не будет уверен относительно мира с турками, и он не может по-настоящему разорвать со Швецией. Его царское величество привел примеры своих предков, когда они вели войну зараз на две стороны. Но царь надеется до конца этого месяца иметь хорошие и надежные известия из Константинополя.
Затем опять с выражением досады его царское величество заявил мне, что генерал Карлович очень много здесь наговорил, но, кажется, от всего этого не будет последствий, которые были обещаны, что он, впрочем, лично его уважает, но в этом деле нет достаточной силы. Я смягчал дело, насколько мог, сваливал причины на то, что, может быть, нельзя было примирить намерения короля с намерением республики и что на это нужно немного времени; достаточно уже и того, что разрыв действительно совершился и что в будущем дело пойдет лучше. Царь ответил, что он этого желает, и кончил в сильных выражениях о том, что не следовало заключать договора и подымать союзников, не исполняя дело как следует».
Через несколько дней Апраксин гостил у Головина, и Петр снова имел долгий, доверительный, с глазу на глаз, разговор с датским посланником в присутствии Шафирова.
Апраксин видел особую симпатию Головина к Шафирову.
— Не токмо языками многими владеет, но умнейший и проницательный человек, — хвалил его генерал-адмирал, — сам государь его привечает…
Апраксин и сам заметил, как расположился к нему царь во время путешествия в Европу. Сын обрусевшего и крещеного еврея-переселенца, подьячего Посольского приказа, Павел Шафиров на лету, бойко переводил с немецкого, французского, голландского, польского, латинского… Без запинки читал с листа иноземные грамоты в русском переводе. И не просто переводил, но и нет-нет да и высказывал свои дельные реплики…
Между тем во второй половине апреля небо над Воронежем распогодилось, солнце припекало по-летнему, кудрявые белоснежные облачка зависли в лазоревой голубизне над разлившимися до горизонта вешними водами.
Полая вода залила крайние киль-блоки, на которых покоилось «Божье предвидение», их заменяли на спусковые, и настал день и час рождения первенца русских мастеровых людей.
По главенству спуском на воду руководил генерал-адмирал. Он степенно расхаживал вдоль помоста, твердо переставляя полные ноги, обтянутые шелковыми чулками. По сути же заправлял всеми предпусковыми работами адмиралтеец Апраксин. Он один по знанию всех деталей строения корабля, его конструкции и устройства мог грамотно и точно распоряжаться подготовкой к спуску и подчиненными ему людьми на верфи.
В последний раз с Верещагиным и Скляевым обошел он вокруг стапеля, проверяя расставленных людей, осматривал каждую подпору на доброй сотне саженей по пути корабля к плескавшейся у киль-блоков воде.
Остановившись у приспущенного трапа, снял шляпу, вытер пот со лба.
— Кажись, все, робята. Федосейка, айда на бак к якорям, а ты, Лукьян, на корму к флагштоку, распутай снасти, чтобы ненароком флаг не застрял.
Он поднял шляпу, окинул взглядом стапель и отмахнул стоявшим наготове у бортовых подпор мастеровым:
— Стрелы вон!
Дружно застучали кувалды, выбивая клиновые брусья спусковых блоков…
Адмиралтеец лихо набросил шляпу набекрень и вразвалку подошел к ожидавшему у среза кормы Петру.
— Так что, господин капитан, порядок, можно приступать.
Апраксин с поклоном протянул ему кувалду с длинной рукояткой, взял сам такую же, и они встали по обе стороны от кормы, у последней подпоры, которая сдерживала вздрагивающую от порывов ветра «Предистинацию».