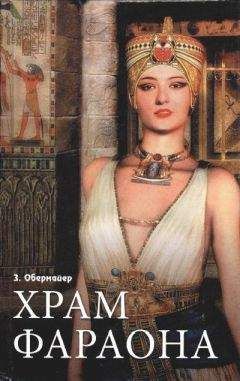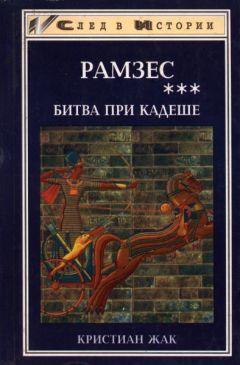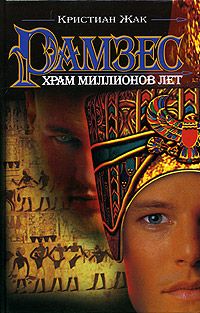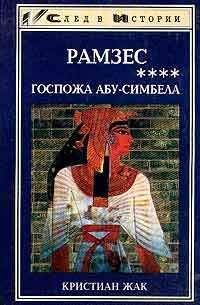Дмитрий Мережковский - Антихрист (Петр и Алексей)
Капитан Румянцев рассказывал ему о своих любовных приключениях в Неаполе.
По определению Толстого, Румянцев «был человек сложения веселого, жизнь оказывал приятную к людям и паче касающееся до компании; но более был счастлив, нежели к высоким делам способен – только имел смельство доброго солдата» – попросту, значит, дурак. Но он его не презирал за это, напротив, всегда слушал и порою слушался: «Дураками-де свет стоит, – замечал Петр Андреич. – Катон, советник римский, говаривал, что дураки умным нужнее, нежели умные дуракам».
Румянцев бранил какую-то девку Камилку, которая вытянула у него за одну неделю больше сотни ефимок.
– Тутошние девки к нашему брату зело грабительницы!
Петр Андреевич вспомнил, как сам был влюблен много лет назад, здесь же, в Неаполе; про эту любовь рассказывал он всегда одними и теми же словами:
– Был я инаморат в синьору Франческу, и оную имел за метресу во всю ту свою бытность. И так был инаморат, что не мог ни часу без нее быть, которая коштовала мне в два месяца 1.000 червонных. И расстался с великою печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амор не может выйти…
Он томно вздохнул и улыбнулся хорошенькой соседке.
– А что наш зверь? – спросил вдруг с видом небрежным, как будто это было для него последнее дело.
Румянцев рассказал ему о своей вчерашней беседе с навигатором Алешкой Юровым, Езопкою.
Напуганный угрозою Толстого схватить его и отправить в Петербург, как беглого, Юров, несмотря на свою преданность царевичу, согласился быть шпионом, доносить обо всем, что видел и слышал у него в доме.
Румянцев узнал от Езопки много любопытного и важного для соображений Толстого о чрезмерной любви царевича к Евфросинье.
– Она девка весьма в амуре профитует и, в большой конфиденции плезиров ночных, такую над ним силу взяла, что он перед ней пикнуть не смеет. Под башмаком держит. Что она скажет, то он и делает. Жениться хочет, только попа не найдет, а то б уж давно повенчались.
Рассказал также о своем свидании с Евфросиньей, устроенном, благодаря Езопке и Вейнгарту, тайно от царевича, во время его отсутствия.
– Персона знатная, во всех статьях – только волосом рыжая. По виду тиха, воды, кажись, не замутит, а должно быть, бедовая, – в тихом омуте черти водятся.
– А как тебе показалось, – спросил Толстой, у которого мелькнула внезапная мысль, – к амуру инклинацию [58] имеет?
– То есть, чтобы нашего-то зверя с рогами сделать? – усмехнулся Румянцев. – Как и все бабы, чай, рада. Да ведь не с кем…
– А хотя бы с тобой, Александр Иванович. Небось, с этаким-то молодцом всякой лестно! – лукаво подмигнул Толстой.
Капитан рассмеялся и самодовольно погладил свои тонкие, вздернутые кверху, так же, как у царя кошачьи усики.
– С меня и Камилки будет! Куда мне двух?
– А знаешь, господин капитан, как в песенке поется:
Перестань противляться сугубому жару:
Две девы в твоем сердце вместятся без свару.
Не печалься, что будешь столько любви иметь,
Ибо можно с услугой к той и другой поспеть;
Уволив первую, уволь и вторую!
А хотя б и десяток – немного сказую.
– Вишь ты какой, ваше превосходительство, бедовый! – захохотал Румянцев, как истый денщик, показывая все свои белые ровные зубы. – Седина в бороду, а бес в ребро!
Толстой возразил ему другою песенкой:
Говорят мне женщины:
«Анакреон, ты уж стар.
Взяв зеркало, посмотрись,
Волосов уж нет над лбом».
Я не знаю, волосы
На голове ль, иль сошли;
Одно только знаю – то,
Что наипаче старику
Должно веселиться,
Ибо к смерти ближе он.
– Послушай-ка, Александр Иванович, – продолжал он, уже без шутки, – заместо того, чтоб с Камилкой-то без толку хороводиться, лучше бы ты с оною знатною персоной поамурился. Большая из того польза для дела была б. Дитя наше так жалузией [59] опутали бы, что никуда не ушел бы, сам в руки дался. На нашего брата, кавалера, нет лучше приманки, как баба!
– Что ты, что ты, Петр Андреич? Помилуй! Я думал, шутить изволишь, а ты и впрямь. Это дело щекотное. А ну, как он царем будет, да про тот амур узнает – так ведь на моей шее места не хватит, где топоров ставить…
– Э, пустое! Будет ли Алексей Петрович царем, это, брат, вилами на воде писано, а что Петр Алексеевич тебя наградит, то верно. Да еще как наградит-то! Александр Иваныч, батюшка, пожалуй, учини дружбу, родной, ввек не забуду!..
– Да я, право, не знаю, ваше превосходительство, как за этакое дело и взяться?..
– Вместе возьмемся! Дело не мудреное. Я тебя научу, ты только слушайся…
Румянцев еще долго отнекивался, но, наконец, согласился, и Толстой рассказал ему план действий.
Когда он ушел, Петр Андреевич погрузился в раздумье, достойное Макиавеля Российского.
Он давно уже смутно чувствовал, что одна только Евфросинья могла бы, если бы захотела, убедить царевича вернуться – ночная-де кукушка дневную перекукует – и что, во всяком случае, на нее – последняя надежда. Он и царю писал: «невозможно описать, как царевич оную девку любит и какое об ней попечение имеет». Вспомнил также слова Вейнгарта: «больше всего боится он ехать к отцу, чтоб не отлучил от него той девки. А я-де намерен его ныне постращать, будто отнимут ее немедленно, ежели к отцу не поедет; хотя и неможно мне сего без указа учинить, однако ж, увидим, что из того будет».
Толстой решил ехать тотчас к вицерою и требовать, чтобы он велел царевичу, согласно с волей цесаря, удалить от себя Евфросинью. «А тут-де еще и Румянцев со своим амуром – подумал он с такою надеждою, что сердце у него забилось. – Помоги, матушка Венус! Авось-де, чего умные с политикой не сделали, то сделает дурак с амуром».
Он совсем развеселился и, поглядывая на соседку, напевал уже с непритворною резвостью:
Посмотри хотя в венцах
Сколь красивы, с белыми
Ландышами смешанны,
Розы нам являются!
А плутовка, закрываясь веером, выставив из-под черного кружева юбки хорошенькую ножку в серебряной туфельке, в розовом чулочке с золотыми стрелками, делала глазки и лукаво смеялась, – как будто в образе этой девочки сама богиня Фортуна, опять, как уже столько раз в жизни, улыбалась ему, суля успех, андреевскую ленту и графский титул.
Вставая, чтобы идти одеваться, он послал ей через улицу воздушный поцелуй, с галантнейшей улыбкой: казалось, Фортуне-блуднице улыбается бесстыдною улыбкой мертвый череп.
* * *Царевич подозревал Езопку в шпионстве, в тайных сношениях с Толстым и Румянцевым. Он прогнал его и запретил приходить. Но однажды, вернувшись домой неожиданно, столкнулся с ним на лестнице. Езопка, увидев его, побледнел, задрожал, как пойманный вор. Царевич понял, что он пробирался к Евфросинье с каким-то тайным поручением, схватил его за шиворот и столкнул с лестницы.
Во время встряски выпала у него из кармана круглая жестянка, которую он тщательно прятал. Царевич поднял ее. Это была коробка «с французским чекуладом лепешечками» и вложенною в крышку запискою, которая начиналась так:
«Милостивая моя Государыня, Евфросинья Феодоровна!
Поелику сердце во мне не топорной работы, но рождено уже с нежнейшими чувствованиями…»
А кончалась виршами:
Я не в своей мочи огнь утушить,
Сердцем я болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно – без тебя скучно;
Легче б тя не знати, нежель так страдати.
Аще же отвергнешь, то в Везувий ввергнешь.
Вместо подписи – две буквы: А. Р. «Александр Румянцев», – догадался царевич.
У него хватило духу не говорить Евфросинье об этой находке.
В тот же день Вейнгарт сообщил ему полученный, будто бы, от цесаря указ – в случае, ежели царевич желает дальнейшей протекции, немедленно удалить от себя Евфросинью.
На самом деле указа не было; Вейнгарт только исполнял свое обещание Толстому: «я-де намерен его постращать, и хотя мне и неможно сего без указу чинить, однакож, увидим, что из того будет».
VI
В ночь с 1 на 2 октября разразилось, наконец, сирокко.
С особенной яростью выла буря на высоте Сант-Эльмо.
Внутри замка, даже в плотно запертых покоях, шум ветра был так силен, как в каютах кораблей под самым сильным штормом. Сквозь голоса урагана – то волчий вой, то детский плач, то бешеный топот, как от бегущего стада, то скрежет и свист, как от исполинских птиц с железными крыльями – гул морского прибоя похож был на далекие раскаты пушечной пальбы. Казалось, там, за стенами, рушилось все, наступил конец мира, и бушует беспредельный хаос.
В покоях царевича было сыро и холодно. Но развести огонь в очаге нельзя было, потому что дым из трубы выбивало ветром. Ветер пронизывал стены, так что сквозняки ходили по комнате, пламя свечей колебалось, и капли воска на них застывали висячими длинными иглами.
Царевич ходил быстрыми шагами взад и вперед по комнате. Угловатая черная тень его мелькала по белым стенам, то сокращалась, то вытягивалась, упираясь в потолок, переламывалась.