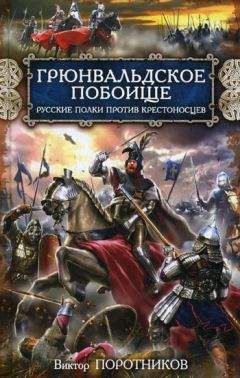Милий Езерский - Гракхи
Но Гай вступился за посольство:
— Ты несправедлив, консул! Войска ропщут, испытывая недостаток в хлебе. А отказываться от помощи друзей нехорошо. Ты же оскорбляешь послов великого царя…
— Молчи! Я не знаю, какие постыдные дела у тебя с варварами, но зато знаю, что сенат тебе не доверяет. Я считал тебя человеком честным, а ты тайком от меня завязал сношения с ливийцами…
И, прервав свою речь, он закричал послам:
— Уходите же! Кто здесь начальник — я или Гракх? Гай вышел из палатки полководца, не простившись с ним. А через несколько месяцев сенат отозвал легионы, оставив на Сардинии только Аврелия Ореста, и Гракх, в силу своей должности, должен был остаться при консуле. В негодовании он вбежал в палатку полководца.
— Это несправедливо! Неужели легионеры виноваты в случившемся? Я тоже не останусь здесь и уеду с ними!
— Гай Семпронии Гракх, — торжественно сказал Аврелий Орест и погрозил ему пальцем, — ты — квестор и обязан оставаться при консуле!
— Один, а не три года! Я уеду.
— Молчи!
Гай побледнел. Повернувшись, он вышел из палатки в сильном раздражении. А ночью самовольно покинул лагерь, решив немедленно отплыть в Рим.
VIII
Лаодика вбежала в азиатскую комнату и, не дав Кассандре даже войти, бросилась к ней с искаженным лицом.
— Я все знаю! — кричала она, задыхаясь. — Ты добивалась смерти Сципиона, сговаривалась с его врагами!.. Я все знаю! — повторила она, прижимая руки к сердцу, — и я не уважаю, не люблю тебя, мать! Я презираю тебя. Ненавижу.
Кассандра холодно взглянула на дочь:
— Ты сошла с ума. Сципион был нашим врагом: он убил твоего отца, соблазнил тебя…
— Замолчи! Он был прав.
— Прав, что убил отца?
— Отец оказался изменником.
И она беспорядочно рассказала все, что слышала об отце от Сципиона.
Но Кассандра не сдавалась: она упирала на то, что патрон воспользовался ее отъездом, чтобы соблазнить дочь своего клиента, упрекала Лаодику в разврате, называла ее блудницей, податливой девчонкой, дурою.
Лаодика молчала. И когда кончились упреки, она оскорбительно засмеялась:
— Разве ты — мать? Пусть Немезида вырвет у тебя лживый и несправедливый язык! Не соблазнил он меня, а мы полюбили друг друга, не блудница я и не податливая девчонка, потому что любила его одного, не развратница я и не дура… Он любил меня слушать, он любил мое сердце, мою душу, он упивался моим телом, как нектаром богов. Он говорил, что эта азиатская комната — Олимп, а я — Афродита. И я верила ему. Он был для меня и Фебом-Аполлоном, и Зевсом, и Марсом, и жизнью, и всем миром… А ты отняла его у меня, ты, убийца!
— Не я убивала…
— Но ты сговорилась с Корнелией, матерью Гракхов, с Фульвием Флакком и с Семпронией, женой Сципиона, и вы отравили его, великого, славу Рима, моего любимого владыку и супруга!
Она топнула, захохотала:
— Ты назвала меня блудницею. Нет, не была я развратницей, и пеняй на себя, если стану гетерою… Уходи, уходи! Что так смотришь на меня? Продавай все, уедем из Рима! Я не хочу оставаться в городе, где он погиб! В Пергам, в Пергам!.. Там я буду отдыхать несколько лет от этого страшного дня… там я… Что же ты стоишь? Уходи, уходи!..
Она зарыдала и, уткнувшись лицом в подушки, неподвижно лежала в полусумраке, жалкая, как избитая рабыня, истекающая кровью.
А Кассандра, выйдя из дому, отправилась к Семпронии просить разрешения о выезде из Рима, но рабыни объявили ей, что госпожа больна и никого не принимает, и лучше поговорить с Корнелией.
Корнелия находилась при дочери, однако не виделась с нею. Семпрония, запершись в своей спальне, не выходила оттуда, а Корнелию не хотела видеть, и когда мать попыталась к ней войти, Семпрония крикнула с такой ненавистью, что Корнелия отшатнулась от двери:
— Ты… ты толкнула меня на преступление… Ты… О мать, мать!..
Эти слова звучали в ушах Корнелии таким осуждением, что она не находила себе места.
Она приняла Кассандру и, узнав, что вдова клиента уезжает с дочерью из Рима, облегченно вздохнула: «Одной свидетельницей меньше — одной тревогой меньше». И она разрешила Кассандре от имени Семпронии продать имущество погибшего Лизимаха и уехать с дочерью в Пергам.
IX
Гракх был встречен народом восторженно. Тысячи плебеев, земледельцы, всадники и мелкие торговцы приветствовали его радостными криками, как благодетеля, а он между тем еще ничего не сделал. Но все помнили его брата и надеялись, что Гай будет продолжать его дело: городской плебс ожидал улучшения своего положения, хлебопашцы, не получившие наделов по вине Сципиона Эмилиана, — земли, а всадники живо еще помнили переговоры с Тиберием.
Такому взгляду на молодого квестора немало способствовал Фульвий Флакк, считавший его несравненно выше себя. Действительно, Гракх превосходил своего друга ясностью суждений, величием дерзаний, неустрашимостью и красноречием. (Даже враги считали его великим оратором и большим писателем.) И Фульвий, восторженно преклоняясь перед Гаем, убеждал народ, что Гракх — единственная надежда плебса и всадников, единственный честный вождь, который, не задумываясь, поведет народ против оптиматов и победит их.
Такие же идеи распространял Фульвий Флакк среди союзников, а получив консулат, выступил с законом о даровании им гражданских прав. Сенат пришел в ужас: «Если консул на стороне врагов, то кому же еще верить?» — шептались оптиматы и, чтобы освободиться от вредного мужа, решили послать его на войну с кельтами. Да и народ был недоволен: он опасался, что новые граждане станут посягать на те выгоды, которые плебс получал от оптиматов, и Фульвий принужден был отказаться от своего предложения. Он уехал в Галлию, вел победоносные войны по ту сторону Альп с саллувиями, а его сторонники подстрекали союзников к восстанию.
Находясь на Сардинии, Гай слышал об отпадении от Рима Аскулума, о восстании Фрегелл, решивших силою добиться гражданства, о взятии их претором Люцием Опимием, срытии стен и превращении города в селение. Друзья писали из Рима, что причиною победы Опимия была главным образом ожесточенная борьба между богатыми и бедными, что дало римлянам возможность подавить восстание раньше, чем оно успело распространиться на другие города и племена, а также измена, открывшая претору доступ в город.
Гракх перечитал конец письма, подплывая к Риму.
«Наглый негодяй, — писал друг об Опимии, — разорил цветущий город и возле места, где находились Фрегеллы, основал римскую колонию Фабратерию. Ты не поверишь, дорогой Гай, куда завело его бесстыдство: он возбуждает судебные дела против жителей несчастного города и римских граждан, обвиняя их в измене, и многие невиновные люди предстанут как соучастники восстания перед судом. Ждем твоего возвращения и помощи. Да хранят тебя всесильные боги и сам Юпитер Капитолийский!»
Рим не понравился Гракху. Какая-то тревога отражалась на лицах граждан. Магистраты держали себя вызывающе.
Клиенты, подстрекаемые оптиматами, возбуждали народ против квестора, самовольно уехавшего с Сардинии, и толпа, встречавшая его утром, как вождя, уже вечером заколебалась.
Перед домом Гракхов бродили ремесленники, выкрикивавшие оскорбительные слова, слышались возгласы о привлечении Гая к суду за нарушение воинской дисциплины, а когда вскоре и цензоры возбудили против него обвинение, Гракх принужден был защищаться.
— Разве я не совершал походов, — говорил он, — не служил на военной службе двенадцать лет, в то время как другие ограничиваются обыкновенно десятью годами? Разве я не оставался квестором в течение трех лет, тогда как закон разрешает вернуться домой после одного года? Из всего войска я один взял с собою свою казну полностью, а не привез ничего; другие же, выпив взятое вино, наполнили свои амфоры серебром и золотом.
Речь Гая была настолько убедительна, что цензоры оправдали его единогласно. Вернувшись домой после этой победы, он написал Корнелии эпистолу.
Изложив подробно свою жизнь на Сардинии, возвращение в Рим, преследования врагов, он кончил письмо уверениями, что Тиберий является ему во сне и требует продолжать его дело. «И я, мать, буду добиваться трибуната, чтобы отомстить за дорогого брата, убитого злодеями; я облегчу положение не только деревенского, но и городского плебса, опрокину сенат, чтоб передать его власть комициям, обновлю отжившую свой век республику. Все, что есть честного, смелого и любящего родину, станет на мою сторону; плебс поймет, что я борюсь за него».
После смерти Тиберия мать поселилась в Мизенах, лишь изредка наезжая в Рим. Семпрония недавно «бежала», по словам друзей, от тоски по мужу, не желая никого знать — ни матери, ни брата, ни родственников, — подальше от Рима, в Элладу, где хотела вопросить дельфийский оракул, как дальше жить, что делать. И о ней не было известий.