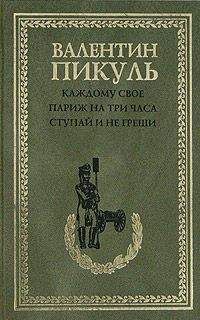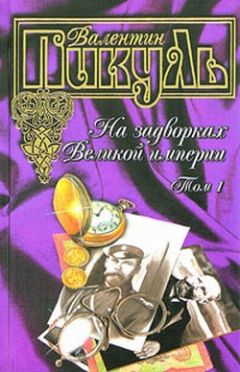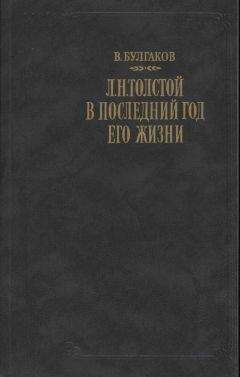Самуил Лурье - Изломанный аршин: трактат с примечаниями
— А это не к нам. Не наша компетенция. Подайте запрос в подсектор Полевого. Шутка. Да не волнуйтесь вы так. Не сказано же: имел основания полагать. Просто зарегистрирован один из рабочих моментов умственной жизни великого поэта. Человеку вообще, а русскому литератору в особенности — свойственно и полезно полагать про ближнего своего, что он — агент. Тем более — про дальнего.
— Чьим агентом можно считать человека, про которого думаешь, что III Отделение он сумел переиграть?
— А двойным: Бенкендорфа и мировой буржуазии. Допускаете же вы, что и сам Бенкендорф работал не только на Николая, но и на галактическую закулису. А если серьёзно — вспомните, как мирволил вашему… подзащитному начальник политической полиции; потакал, покровительствовал фактически. Ценил дарование, говорите? Уважал как человека и писателя? Бенкендорф? Ну-ну. А после разгрома «Телеграфа»: откуда нам знать, на каких условиях оставили Полевого в Москве, вообще — в литературе? Не заставили ли — хотя бы для виду, для отчёта о проведённой с ним профилактической беседе — дать соответствующую подписку? Нет, нет, никаких доносов — кому они нужны, и так выше крыши, не успеваем обрабатывать. Но мало ли — возникнет, предположим, надобность поправить слог во всеподданнейшем ежегодном обзоре настроений, — ведь не откажетесь помочь? Разве не идеальный был момент для вербовки? разве Полевой не идеальный был объект? А что документов не осталось — это в порядке вещей.
— Но если документальных данных нет и всё это одни только домыслы — жалко вам, что ли, указать невежественному потомству: Пушкин полагал и так далее — безосновательно?
— Не понимаете. Это было бы ненаучно. Нет данных за — но ведь нет и против. Те или другие могут ещё когда-нибудь быть откопаны. Хотя вероятность ничтожна.
— Что это вы такое говорите! Данные против — разве бывают? Как вы их себе представляете? В виде справки на бланке Большого дома: предъявитель сего в картотеке А (сексоты), а равно и в картотеке Б (стукачи) не числится? О да, с такой бумагой в нагрудном кармане можно смело смотреть потомству в глаза! Никаких улик. Сбережение агентуры — первая заповедь. А. И. Рейблат рассказывает: Фон-Фок собственноручно переписывал сообщения информаторов, после чего уничтожал. А, наоборот, лжеулики, я думаю, копил, как валюту. Записку Пушкина о Мицкевиче небось не сжёг.
— Прекратите. С этим клочком бумаги давно разобрались. Только любитель дешёвых сенсаций способен…
— Кто же их не любит. Кстати, не клочок: обыкновенный канцелярский лист качественной казённой бумаги. И разобрались вы с ним — извините — как всегда: типа да будет стыдно тому, кто задаст вопрос, и поэтому отвечать на него нет смысла. Типа ну совершенно ничем не примечательный текст. И действительно так. Заурядная объективка. На французском языке, без подписи, с датой: 7 января 1828. Адам Мицкевич привлекался тогда-то и там-то, дал такие-то показания, отсидел столько-то, выслан туда-то под присмотр такого-то и такого-то; в настоящий момент надеется, «что если их отзывы будут благоприятны, власти разрешат ему вернуться в Польшу, куда его призывают домашние обстоятельства». Всё. Ровно ничего интересного, если бы не эта неприятная подробность: рука — Пушкина, его самый лучший, парадный почерк.
— Ни малейшей неприятности, наоборот. Великий русский поэт ходатайствует за великого польского. Благородный пример профессиональной солидарности.
— Поднадзорный — за поднадзорного? Вам ли не знать, ему ли было не знать, на каком он там счету, какой вес имеет там его мнение? Но допустим. Тогда — каково же оно? Что он предлагает, чем аргументирует? И — почему не подписался?
— Ходатайство было, по-видимому, устное. В личном разговоре. И собеседник сказал Пушкину: а набросайте-ка мне основные факты; чтобы я, докладывая наверх, ничего не упустил.
— Вот! Это уже теплей. Стандартная, многажды изображённая процедура — мягкая вербовка втёмную. Как дела, над чем работаете, нет ли проблем? Говорят, завтра вы завтракаете (смешной оборот, а не вывернешься из него) у господина Булгарина? И господин Мицкевич там будет, его друг; вы ведь с ним знакомы ещё по Москве? Мы в курсе. В гостях — у Николая Полевого, кажется? — пили за его здоровье, участвовали в складчине на какой-то серебряный кубок… Большой артист, не правда ли? Ах, вы читали только переводы… Но ведь он мастер? мастер? Что вы говорите: тоскует? по семье? бедный! Послушайте, это очень, очень важно; вы можете оказать Мицкевичу неоценимую услугу: напишите это — вот то, что вы только что сказали; напишите прямо сейчас… Прекрасно, прекрасно. Погодите, не подписывайте — давайте-ка вместе придумаем ник; что-нибудь из вашего неопубликованного; может быть — Арион? Это что-то мифологическое — говорящий конь, да? Тут Пушкин, конечно, опомнился и, конечно, взбеленился. Убедительно, надо думать, взбеленился. Основательно. И его оставили в покое. А бумажку — на всякий случай — в досье; такая глупость: забыл разорвать.
— К чему этот скучный плагиат из советской антисоветской беллетристики?
— А к тому, что если бы почерк записки был чей-нибудь другой, — признайтесь: мы не стали бы сочинять никаких версий. Сочли бы её за едва ли не безусловное доказательство сами знаете чего. Но тут — мы абсолютно точно знаем: этого не может быть! Просто потому, что если в это хоть на секунду поверить — нас самих больше нет. Рубенс был шпион — фламандская живопись восхитительна. Дефо был шпион — Робинзон Крузо лучший друг советских школьников. Дидро, говорят, был шпион, — никого не колышет. Но если бы тот же я, например, мог представить себе, что Пушкин —! Это как тотальный, фатальный инсульт. В одно мгновение вы превращаетесь в слепоглухонемого идиота. По крайней мере, на русском языке больше ни говорить, ни даже думать нельзя. Не то что читать или писать… А вы — о доказательствах! Ни один человек в России никому и ничем не может доказать, что он не агент и никогда не был агент, — ничем, кроме всей своей жизни, до агонии включительно. Кроме всей своей жизни, всей своей жизни. Пушкин — доказал. А Полевой, скажете — нет?
— Ваш Полевой — никто. Для всех и давным-давно. И звать никак. Некто, кого Пушкин (и не он один) не любил, — не всё ли равно, за что? За многое. В 36-м — я скажу, а вы сразу забудьте! — даже и за то, что сам в 34-м аплодировал победе Уварова над «Телеграфом». Которой ведь и поспособствовал чуть-чуть. О, совсем чуть-чуть, — но как отрадно думать, что человек, вынудивший вас сделать гадость, ничего другого и не заслуживал: потому что он гад. Якобинец, шпион, какая разница? Это всего лишь бранные эпитеты, по-разному мотивирующие неприязнь — одну и ту же.
— Пусть никто. Но ни в коем случае не гад. Остаться в истории литературы никем (т. е. не остаться, потеряться) — это одно, а остаться кем-то, про кого Пушкин написал: шпион, — это немножко другое, согласны?
Давайте прикинем: с какой стати ему пришло на ум именно такое слово, а на память — имя: Полевой.
Осенью 36-го один молодой историк, Устрялов, намереваясь защищать докторскую диссертацию, напечатал её отдельной брошюрой. Там он оспаривал какие-то положения Карамзина, в чём-то соглашался с Полевым, — ну, как должно быть в добросовестной научной работе. Вяземский написал разбор. В виде открытого письма к министру Уварову. На тему: все враги России — противники Карамзина, и все противники Карамзина — враги России. По-видимому, князь Петр Андреевич окончательно забросил чепчик за мельницу. Три цитаты:
«…Г. Устрялов не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полевого: стройное творение одного и хаотический недоносок другого! И столь двусмысленно или просто сбивчиво опутал собственное мнение своё оговорками, пошлыми фразами и перифразами, что поистине не знаешь, кому из двух отдаёт он преимущество!»
«…Письмо Чаадаева не что иное в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин».
«…И самое 14 декабря не было ли впоследствии времени, так сказать, критика вооружённою рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть Историею Государства Российского…»
Чудовищный этот текст Вяземский предложил «Современнику».
Печатать его, разумеется, было нельзя, неприлично; Пушкин написал Вяземскому: цензура не пропустит. Разве при каком случае удастся использовать отрывок-другой. И отчеркнул в рукописи самый подходящий — насчёт хаотического недоноска. Сбоку приписал:
«О Полевом не худо бы напомнить и попространнее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести, — не говорю уже о плутовстве подписки, что касается управы благочиния, а не Академии наук».
Обвинение немного странное, если вдуматься: от человека, пятый год получающего солидную плату за труд, которым занимается — скажем так — спрохвала.