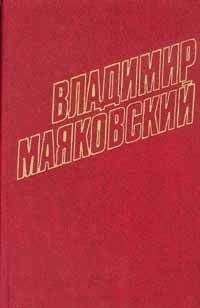Борис Васильев - Князь Ярослав и его сыновья
– Как раз-то Русь и потеряем, князь Галицкий. Русь – это народ, а не просто земля оттич и дедич. Сам народ! Его вера, обычаи, законы, его песни и пляски.
– Так что же, по-твоему, лучше отатарить ее, лишь бы власть свою не утерять?
– Власть мне вручил народ, когда Невским нарек. И я ему служу, ему, народу русскому, а не собственным расчетам. – Александр посмотрел на красного от сдерживаемого гнева Галицкого, улыбнулся неожиданно. – Полно, Даниил Романович, орать-то друг на друга. Поднимем кубки да остудимся малость. Так-то оно лучше будет. Почти что родственники, считай.
Они долго и неспешно прихлебывали из кубков, стараясь не глядеть друг на друга, но постепенно приходя в себя. «Родственники, – хмуро размышлял Галицкий. – Что ж, тогда разговор еще продолжим, князь Невский. По-родственному, через любимого братца…» И сказал с горечью:
– На Руси князья всегда первыми себе крамолу куют. Судьбина у нас такая, что ли…
– Нрав у нас и до сей поры варяжский, а не судьбина, князь Даниил Романович, – вздохнул Невский. – Пращур наш Рюрик и с того света нам покоя не дает. «Это мое и это – мое тож». Разве не так, брат Рюрикович?
Через три дня Галицкий отъехал все с тем же раздражением против самого себя, от которого так и не удалось избавиться. Невский не пожалел и не посочувствовал, и это тоже стало обидой.
Конечно, татары, только татары были повинны в том, что ему, самому князю Даниилу Романовичу Галицкому, пришлось выдать тайные планы князя Михаила Черниговского, и тут личной вины его нет и быть не может. Эта спасительная мысль наконец-таки утвердилась в нем, потеснив растревоженную совесть, и князь Даниил обрел и прежнюю страсть к бурной деятельности, и прежний покой. Враг, заставивший его внутренне терзаться столько времени, был найден, пощады ему быть не могло, но следовало поступать крайне осторожно, чтобы татары, чего доброго, не подсказали Михаилу Черниговскому, кому тот обязан немилостью самого Бату. Но он все же назначил своего хранителя печати митрополитом вместо Петра Аскерова, как того требовала Золотая Орда.
4
Гуюк знал о караване, в котором ехал князь Ярослав Владимирский за получением ярлыка на собственные земли, как то было заведено у монголов для правителей покоренных народов. Как только огромный обоз переправился через Волгу, впереди его помчались гонцы, с каждым перегоном увеличивая разрыв. Сарай не делал из этого тайны, потому что личным представителем хана Бату и был назначен его старший брат.
Насколько Каракорум недолюбливал Бату, настолько же благоволил к Орду. Добродушный и недалекий внук Чингисхана очень не любил ссор, страдал из-за них и старался сглаживать все шероховатости хотя бы между ближайшими родственниками. При этом он сам лично ни на что не претендовал, к власти не стремился, поскольку до ужаса боялся ответственности, и был вполне доволен судьбой. Властный, умный, жестокий и недоверчивый Бату был не просто полной противоположностью старшего брата, но противоположностью активной и непредсказуемой, что вызывало хмурую озабоченность в Каракоруме. К этому примешивались и личные мотивы: как сама ссора Бату с Гуюком, так и теплые проводы изгнанного из Западной армии Гуюка старшим братом ее командующего. Такое не забывалось даже в те свирепые времена, и Бату знал, кого послать вместо себя на великий и смертельно опасный для него курултай.
Гуюк это сразу же понял, сказав с усмешкой:
– Так и быть, пожалую Бату мирником. Если согласится, может быть, и хребет спасет.
А караван полз через Великую Степь с каждого тусклого рассвета и до каждого тусклого заката. Стонали волы, свистели бичи, скрипели арбы, и замертво падали от страшной усталости и холода рабы-погонщики. Но ничто не могло остановить этого неукротимого движения, и умерших хоронили по ночам.
Десятники будили своих людей еще затемно, когда чуть подсвечивался восток. Рабы и рядовые жевали поджаренное пшено, запивая его кипятком, и спешили по своим раз и навсегда определенным местам. И тотчас же появлялся сам Орду, не позволявший себе ни единого опоздания. Молча проезжал вдоль растянувшегося каравана, следя за порядком, а когда трогались в путь, непременнейшим образом отправлялся завтракать в подвижную юрту князя Ярослава. У входа в нее всегда ожидал Сбыслав, чтобы переводить слова своего повелителя, но беседы никогда не возникало: Орду молчал, как валун, а Ярослав бормотал случайные слова, что, впрочем, не мешало им вполне дружелюбно относиться друг к другу.
Иногда их раннюю трапезу посещал и Кирдяш. Осунувшийся, почерневший от морозных ветров, злой, но неунывающий. Ему приходилось несладко, поскольку он каждую ночь тщательно проверял стражу, досыпая днем в седле. Ярослав с трудом выносил его посещения, но Орду всегда радовался появлению начальника охраны, и строптивому князю оставалось только терпеть собственного холопа за собственным столом.
– И естся у тебя, великий князь, и пьется добро! – говаривал Кирдяш, осушая кубок старого медового перевара.
– Могущий пити да пьет, – через силу улыбался Ярослав.
Сбыслав нехотя переводил Орду каждое сказанное слово, нехотя ел и нехотя пил, потому что с некоторых пор мысли его были далеко. В самой середине каравана.
Во время их ранних трапез Гражина еще нежилась в пуховиках. Иногда спала, но чаще в сладкой полудреме вспоминала последнее свидание с молодым и некогда таким заносчивым боярином и хорошо продумывала свидание следующее. Добыча ее уже путалась в сетях, иногда пытаясь разорвать их, но при этом запутывалась еще больше. Теперь следовало неспешно накидывать петельку за петелькой, делая это мягко и в отлично рассчитанный момент, и главный дар Бату-хана был невероятно доволен собой. Затеянная игра не только давала возможность поработить возомнившего о себе выскочку, но и так мило скрашивала нудную дорогу, так развлекала и отвлекала одновременно, что порою тигрица чувствовала себя почти счастливой.
Гражина всегда сама выбирала, о чем должна быть беседа, не только потому, что это входило составной частью в искусство обольщения, но и потому, что Сбыслав с женщинами беседовать так и не научился. Он был способен на сумбурную вспышку искренности, как то однажды случилось наедине с Марфушей, но не более того, почему и прикрывался вначале сковывающей застенчивостью, а потом – тщеславной надменностью. И то и другое равно раздражало собеседницу, что в конечном итоге и навело Гражину на мысль проучить заносчивого и нелюбезного молодого человека.
Обычно они встречались после обеда, когда князь Ярослав, по заведенному издревле обычаю, ложился поспать часа два-три. Хан Орду полагал, что Сбыслав в это время находится при князе, а князь – что он сопровождает Орду. Таким образом сами собой возникали два часа свободы, и верная наперсница Гражины Ядзя осторожно проводила Сбыслава в юрту, а его коня привязывала к платформе, на которой ехали служанки.
Гражине уже удалось не только заставить русского боярина внимательно слушать себя, но и слушать сочувственно. При последующих встречах она старалась углубить достигнутое и добилась этого довольно легко. Теперь пришла пора от сочувствия переходить к заинтересованному искреннему взаимопониманию, как мостику, способному соединить две души, заброшенных жестоким роком в желтый степной ад. Для этого необходимо было заставить жертву рассказывать о себе, и непременно – о детстве, ибо ничто так не расслабляет мужчин, как воспоминания о былой безмятежности, защищенности и бестревожности собственного существования. И это ей тоже удалось.
Монотонно скрипела и раскачивалась платформа, а вместе с нею и юрта, стонали волы, и ничего больше не было в мире.
– Я не помню своей матери. Она умерла, когда мне был всего месяц, и моей кормилицей стала кобыла. Чогдар говорил, что она ложилась и подставляла мне вымя.
– Чогдар?
– Побратим моего отца. Он теперь – главный советник самого Бату-хана.
– Какая высокая честь!
– О, Чогдар стоит ее. Он не только обучил меня всем видам монгольского боя, но и языкам.
– А что же твой батюшка?
– Он пал в Ледовом побоище.
Сбыслав тяжело вздохнул, подумав, как бы гордился сейчас отец невероятными, скачкообразными успехами сына, ставшего не только воеводой и боярином, но и особо доверенным лицом самого Бату-хана. Гражина тоже вздохнула:
– Не печалься, мой витязь. Горем горю не поможешь.
И осторожно нежной рукой, почти невесомо коснулась его длинных вьющихся волос. Сбыслав вздрогнул, но не отодвинулся, а, наоборот, непроизвольно подался вперед, точно его качнула вдруг дернувшаяся платформа. «Ого! – мелькнуло в голове Гражины. – Костер готов, осталось высечь искру…» И она мягко, с подчеркнутым нежеланием убрала руку. Они помолчали.
– Я очень любил отца, – сказал Сбыслав, точно оправдываясь. – Он заменял мне матушку, деда, бабку – всех вместе. И спас меня, когда мы бежали от татар через студеную зимнюю степь.