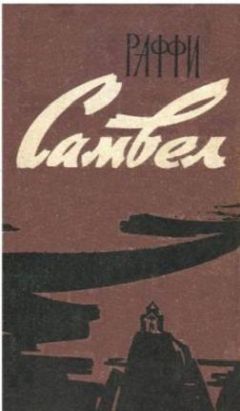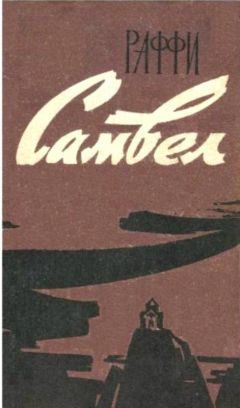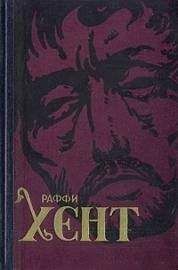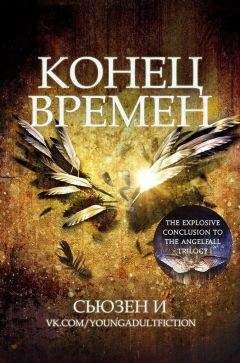Давид Бек - Мелик-Акопян Акоп "Раффи"
Через несколько минут вернулась хозяйка с паласом, подушкой и одеялом, подмела конуру и приготовила гостю постель.
— Ты жаловалась на нищету, — сказал ей Шах-Кулп, — вот бери все, что у меня есть, этим ты можешь немного поправить свои дела.
— Оставь свое серебро, — ответила женщина, — у нас нет привычки брать денег с божьих гостей.
— Но я попрошу тебя об одной маленькой услуге.
— Приказывай, что тебе угодно.
— Ты должна держать в полной тайне то, что я здесь. О причинах узнаешь потом.
— На этот счет не беспокойся, господин, можешь спать спокойно. Мне все равно, кто ты и что тебя вынуждает прятаться. Достаточно того, что я делаю добро. Я же понимаю, время военное, всякое бывает…
— Спасибо, добрая женщина, — сказал молодой человек и забрался в конуру, — я уверен, ты исполнишь свое обещание.
Он, привыкший к шелковым, мягким постелям, лег на палас, положил голову на холщовую подушку, набитую сеном, и натянул на себя рваное одеяло. Эту жалкую постель он сам уготовил себе. То была кара, которую бог послал, как бы говоря: «Вот и испытай на себе, что такое нищета, сколько тысяч семей ты лишил хлеба и крова, теперь сам посмотри, как живут твои жертвы!»
Но молодой человек ничего не замечал вокруг. Его чувства настолько притупились, что он совсем не ощущал смрада, которым была пропитана конура. Усталые, разбитые члены его моментально призвали к нему такой глубокий сон, о котором он и не мечтал в доме своего отца на шелковой постели.
Хозяйка погасила свечу и стала возле двери курятника, внимательно прислушиваясь к храпу гостя. Если бы кто-нибудь различил в темноте выражение ее лица, понял бы, как она довольна. Сына князя, властвовавшего в стране, она запихала в курятник. То была шутка, горькая и злая шутка. Лучшей мести она бы не смогла придумать, но женщина и этим не удовлетворилась.
Окончательно уверившись, что гость спит, хозяйка направилась к воротам. Хотя женщина сама заперла ворота, но лишний раз проверить не мешало. Потом вошла в хижину и снова зажгла свечу. Подошла к детям, они спали, все под одним одеялом. Малыши сбросили одеяло во сне, она поправила. И стала со свечой в руке рыться во всех углах хижины. Брала предметы, посмотрев, отбрасывала в сторону. Нашла сломанный нож, попробовала на пальце, он был тупым. Его тоже отложила. Наконец, отыскала тавламех [135], этот годился, но надо было найти еще один инструмент. Взяла большой деревянный молот, которым отбивала кюфту [136]. С этими двумя орудиями пошла к курятнику. Она ступала тихо и осторожно, как кошка. Подошла к конуре, стала прислушиваться. Шах-Кули не только храпел, но даже что-то бормотал во сне. Сомнений не могло быть, гость спал.
Она осторожно прокралась в курятник, зажгла свечу и стала смотреть на молодого человека. В конуре было так тесно, что трудно было повернуться, тем не менее она бесшумно устроилась у его изголовья. Он лежал на спине. Голова скатилась на край подушки. Она осторожно перевела ее на середину. Но вдруг руки ее задрожали, в женщине проснулось нечто вроде жалости. Она грешила против гостеприимства, против данного слова. Этот человек нашел убежище в ее хижине, князь страны укрылся у нищей женщины. Как изменить слову, как пойти против совести и чести? Не будет ли это виной, огромным и ужасным грехом? Сердце громко забилось. Она была готова встать и покинуть это страшное место.
А Шах-Кули все еще разговаривал во сне. В его бессвязных словах женщина вдруг уловила: «Всех бековцев… перебить… до единого».
Слова эти привели ее в ярость. Она сама принадлежала к сторонникам Давида Бека. Ее муж тоже был бековцем и находился среди ополченцев. Может быть, именно в эту минуту он сражается против войск человека, который лежит перед ней, чья жизнь находится в ее руках.
«Их нельзя щадить, — сказала она про себя, и глаза ее зажглись гневом. — Сколько людей они перебили, сколько женщин сделали несчастными!.. Нет села, нет хижины, до которых не дотянулась бы их рука… Нет им пощады».
С последними словами она перекрестилась, приставила огромный гвоздь ко лбу молодого человека и так сильно ударила молотом, что гвоздь наполовину вошел в череп. Горячая кровь брызнула из раны. Шах-Кули несколько раз конвульсивно дернулся и затих.
Женщина быстро вышла и заперла за собой дверь.
XI
Построенные из гладкотесаного камня кельи Татевского монастыря имели узкие окна с каменной рамой, сквозь которые могла бы пролезть разве только кошка. Естественно, они не нуждались в ставнях, окно достаточно было закрыть бумагой.
В одной из келий стояли колодки, напоминающие типографский пресс, специально изготовленные для тюрьмы. В них были втиснуты ноги заключенного, он лежал на спине, не в силах пошевелиться, — сзади его руки стягивала веревка, концы которой были привязаны к столбу.
Дверь темницы отворилась, вошел кто-то из монахов. Заключенный не спал, а пребывал в каком-то дремотном состоянии. Он услышал скрип двери и открыл глаза. Снаружи стояли два вооруженных воина. Заперев за собой дверь, монах подошел к колоде, ослабил винт и освободил ноги узника. Тот сел, но руки остались связанными.
Лицо заключенного искажала страшная гримаса, глаза горели лихорадочным огнем, волосы на голове и борода были всклокочены.
— У тебя лет сонника, святой отец? — обратился узник к вошедшему.
— Нет, но я разбираюсь в снах, — ответил монах, присаживаясь поближе к нему. — А что тебе приснилось, мелик?
— Я видел плохой сон, — ответил тот со вздохом. — Во сне у меня горел халат, подарок Фатали-хана. Как ни старался я потушить огонь, заливал его водой, халат горел все сильнее… Пока не превратился в золу.
— Сон этот настолько ясен, что даже не требует особого истолкования, — проговорил монах, — халат, подаренный Фатали-ханом, это знак того, что он вверил тебе власть. Халат сгорел, а вместе с ним кончилась и твоя власть.
— Как это кончилась? — со злостью спросил арестованный.
— Неужели не понимаешь? Посмотри вокруг, где и в каком положении ты находишься…
— Это я понимаю… — ответил с глубокой горечью узник. — Если бы хан со своим войском приспел часом раньше, меня бы здесь не было. Но они подошли, когда все уже было кончено…
— Я думал, тебя мучают укоры совести, мелик, — медленно проговорил монах, — но ты, видно, не желаешь раскаяться, сознаться в грехах и ошибках, причинивших столько бед и горя нашему краю. Неужто твоя совесть спит? На что тебе персидское войско, с кем ты воюешь — с освободителем нашей страны?
— Нет, с разбойником, мятежником, с наглым бунтовщиком, который хочет стать армянским царем!
— Своими деяниями он достоин и большего.
— Своими деяниями он достоин того, чтобы его протащили с веревкой на шее по улицам Татева и обезглавили!
Заключенный был Отступник, татевский мелик. Нам уже известно, чем кончилось его сражение с Давидом Беком и как были разбиты его войска. После этих неудач он пытался с несколькими телохранителями спастись бегством в Баргюшат, где надеялся получить помощь от Фатали-хана и продолжить борьбу. Однако князь Баиндур преследовал и настиг его. Войска Фатали-хана подошли тогда, когда Отступник был уже схвачен.
Монах, явившийся духовно поддержать арестованного и вернуть на путь истины, был отец Хорен, один из самых образованных молодых членов братии Татевской обители, соединявший в себе религиозные добродетели с мужеством и отвагой. Встретив яростное сопротивление Отступника, он очень огорчился — как может армянский мелик так низко пасть, чтоб предпочесть персидское иго независимости и свободе родины.
— Мелик Давид не смирится перед Давидом разбойником, — желчно произнес Отступник.
— Тебе надобно смириться перед божьей волей и желанием народа, — веско произнес отец Хорен. — Давид Бек выражает волю народа. Доказательство тому — наше движение. Ты сам видел, как народ добровольно последовал за ним.