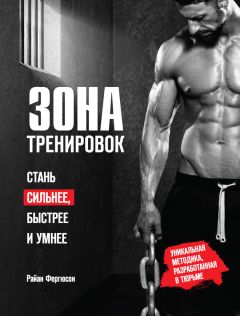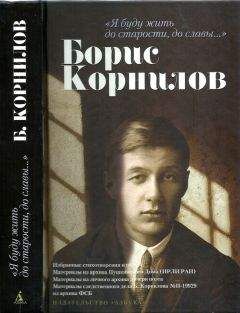Нестор Кукольник - Иоанн III, собиратель земли Русской
По выезде из замка князя Васю окружили три десятка секлеров и почти неволею повезли к епископу раабскому Бакачу, от лица королевы заведовавшему полицейским управлением в Буде. Там их партия в последние дни усилилась.
Бакач, похаживая по своей роскошной спальне, полуодетый, высказался еще беззастенчивее:
— За удалением герцога Иоанна, которому венгры не хотят отдаться, посол московский должен немедленно выехать не только из столицы, но даже из пределов Венгрии!
— Так я поеду к Пяти Костелам?
— Туда никто не пустит тебя. Спасибо, что сказал! Отправим на границу с провожатым. Можешь к себе заехать: собрать пожитки и быть готовым к рассвету… ехать!
— Вы не можете посла иностранного государя высылать без государственного сейма.
— Коли силу имеем — и вышлем! Что еще толковать с хизматиком, — отозвался он величественно, по-латински.
— Я не поеду!
— Повезут!
— Принесу жалобу сейму!
— Когда он будет собран… можешь. А теперь — вышлем!
И повернулся спиной.
В бешенстве приехал к себе Холмский. Двор их — уже окружен стражею. Видеть деспота и Зою — нельзя. Никто не хочет ничего слушать. На лицах стражников явное озлобление. Пришлось покориться необходимости.
К свету донесение государю обо всем было готово; распоряжения — как и куда следовать дьяку с казною — сделаны. Вася в сопровождении Алмаза да и еще троих из своих отроков оставил посольский дом и Буду, под конвоем вывезенный на краковский тракт к Грану. В Кременце, когда остановились наши проезжие кормить лошадей, маршалок князя Очатовского, приезжавший за княжною, подал Васе письмо своего господина с приглашением почтить его дом посещением. Шестеро челядинцев при маршалке вели дюжину заводских лошадей в дорогом уборе, с серебряною сбруею (и с подковами даже их того же металла).
От такого обязательного предложения, находясь в пути уже, да не зная, куда и направиться, Вася не видит нужды отказываться. Он дает вести себя посланцу.
Вот мы встречаем их уже на третий день путешествия, не входившего недавно еще в соображение. Проезжают путники по картинной местности, где возвышения поросли частым липняком, яркая зелень которого так заманчиво манит под листву свою утружденных зноем путников, хотя солнце и не высоко еще…
Путь лежит по самой населенной части земель короны польской, где ночлеги довольно удобные, дороги сносны, а бодрые иноходцы бегут довольно бойко. Так что на третий день пути седоватый маршалок довел до сведения его мосци, князя Ходумского, что они уже въезжают во владения его милостивого пана — князя.
Было около полудня, когда из-за молодого липняка, раскинувшегося по скату пологого невысокого кряжа, блеснули звезды костельных шпицев, а из-за них выглянул с гербовою хоронгвою и палац княжеский.
Предстояло затем спускаться в обширную котловину болотистого луга да за плотиною взять немного влево. Путь был неширок и шел волнистою дугою, изгибаясь между невысокими холмами, служившими гранями пашен и конопляников. Стали попадаться верховые шляхтичи и неуклюжие телеги деревенской работы, в которых то и дело мелькали паны с паньями, разряженные в яркоцветные праздничные кунтуши. Ясно было, что у их мосци князя Очатовского готовился банкет на славу.
Вот за последними липами открылась поляна и на ней прямая как стрела, хорошо укатанная, песчаная дорога, обрамленная редкими пирамидами тополей, ведет к самому дому владельца. Бесчисленное множество экипажей, которые считались очень щеголеватыми и покойными, хотя были неуклюжи и тряски, расставлено в несколько рядов на протяжении чуть не версты. Можно судить поэтому, сколько наехало гостей к хлебосолу старому князю! Нашим путникам дают почтительно дорогу все встречавшиеся, обгоняемые ими, так что сытые коньки чуть не летят, издавая веселое ржанье при виде конца своих странствований. Маршалок нарядился в новый кунтуш брусничного цвета, выложенный узким позументом. Широкий пояс перетягивал несколько пополневший стан его, не потерявший, однако, былой своей гибкости, хотя серебро уже сквозило в длинных усах его и обильные кудри головного убора словно прикрылись инеем. Стариком нельзя было назвать пана Мацея, но ему уже шел шестой десяток, и из этого итога годов больше половины провел он в боевых тревогах, оставивших по себе на память два-три сабельных рубца на круглом лице пана маршалка да след дурно залеченной раны от стрелы, глубоко вонзившейся в поясницу лихого наездника. Несмотря на этот маленький изъян, без сомнения влиявший на меньшую развязность движений пана Мацея, он спрыгнул как юноша с седла — после девятичасовой быстрой езды — у ворот обширного двора и, взяв под уздцы коня князя Василия Холмского, подвел его к самой ступени лестницы, ведшей в жилище своего владельца, предложив только тут сойти с коня. Отдав лошадь слуге, Мацей повел гостя в открытые главные двери палаца, где ему удалось прямо найти и хозяина. Князь был в первой же палате и, по звуку речи маршалка ловко обернувшись, принял в объятия подходящего гостя. Ласка хозяина своею живою искренностью привела молодого Холмского в сладкое волнение: никто еще не принимал его так дружески родственно. Он хотел говорить, но выходили какие-то полузвуки, смысл которых затруднился переводить усердный толмач. Очатовский держал в объятиях гостя и не замечал, как текут у него самого по усам тихие слезы. А это, конечно, только могло усилить волнение прибывшего.
— Не судил Бог, — начал, несколько успокоившись, со вздохом, хозяин, — назвать мне тебя, мой благодетель, сыном, но чувства, которые питаю к тебе я, вполне родственные.
Вася кланяется, не находя слов для ответа; им овладело большое волнение; глаза ничего не видят, и в ушах отдается словно шум какой. Подошла разряженная княжна Марианна и, взяв за руку гостя, повела его к дамам. Шепот благосклонности пронесся по ряду красавиц при виде миловидной пары, какую не нашлись бы похулить в чем бы ни было и самые ярые злоязычницы из чопорных невест, отчаявшихся в составлении партии. Отец вздохом проводил удалившуюся чету. Видя смущение своего спутника, княжна поспешила усадить его подле себя.
Щебетанье живой польки никогда еще не проявляло такой вызывающей обаятельной силы на Холмского, и он был как на угольях. Пытался поднять глаза на свою недавнюю пленницу и не мог произвести этого маневра, собирая все свое мужество. Наконец, после порывов ярого отчаяния, он таки осилил себя настолько, чтобы обвесть глазами многочисленное собрание. Княжна, расточая любезности, была не прочь уколоть Холмского (к которому в глубине души питала она безнадежную любовь, считая наружную холодность его за презрение к себе), но не находила желчи для резкого сарказма. Взамен его с уст ее только слетело заявление, что она не должна более вспоминать тех навек неизгладимых ощущений, которые переживала в Крыму, потому что… почти уже жена пана Жмыховского!..
Княжне при этих словах показалось, что у Холмского что-то блеснуло в глазах, и он поспешно потупился.
«Не может быть! — думает Марианна. — Мне показалось только это. Лед не может таять! Не мне вызвать искры из этого камня…»
А лед почти расплавился теперь, хотя и поздно. И камень готов был разлиться огненною лавою, если бы не роковые слова, поразившие его, как громом. Он не успел оправиться, как Марианну зовут: приехала мать ее крестная. Она встает, но рука Холмского безотчетно ее как-то удерживает. Княжна с улыбкой обращает глаза к нему и видит в лице князя такое смятение и такую нежность, что чувствует, как кровь приливает ей самой к сердцу. А томительное беспокойство сжимает его с неведомым до того страданием.
— Пусти меня, князь Василий!
— А я хотел бы наглядеться на тебя! — шепчет он одной ей слышными звуками.
— Потом… я приду… после.
Но и ее удерживает та же чудная сила, которая сковывала до сих пор чувства Холмского, теперь готового излиться в молениях и жалобах.
— Неужели не могу я любоваться в последний раз, княжна? — теми же неслышными ни для кого, кроме нее, звуками спрашивает, почти не растворяя уст, молодой князь.
— Ступай в сад, все прямо… в кусты, а там… вправо… в рощу, за прудом! — едва владея собой, также неслышным шепотом, ответила Марианна, направляясь к панне крестной своей, успевшей уже вкатиться в ту комнату, где находилась она.
Вася ускользнул при первой возможности из залы и — прямо в сад. По дорожкам гуляют счастливые пары. Он сторонится при встрече и направляется в кусты. Густой орешник разросся так роскошно, что с первого же шага под хранительную сень его — он уже невидим. При говоре и смешанном гуле от подъезжающих телег и повозок шелест травы под ногами его неслышен. Голоса удаляются, потом слабеют и — совсем их нет. А он все идет дальше, внимательно всматриваясь: не блеснут ли где серебряные струи? Наконец направо темная зелень густой листвы прорезалась светлым пятном. «Пруд!» — чуть не вскрикнул Холмский и перевел дух. Через несколько мгновений он стоял уже на берегу водяного зеркала, с одной стороны только не обрамленного могучими кленами. Исполины эти давали как бы возможность видеть с пруда далекий палац. Равнина вод была очень обширная, так что противоположный берег отстоял больше чем на сотню сажен, а заворот влево шел еще дальше, представляя глубокую впадину — бывшее озеро и за ним речку, уходившую в ясную глушь. В ту минуту, когда, обозрев берега пруда и найдя пункт, удобный для наблюдения, Холмский сел на траву поджидать Марианну, — погрузившись в золотые грезы, где панна рисовалась феею — раздавательницею всевозможных благ, которые представить способно было его воображение, — из этой глуши выплывала лодка. В ней сидели двое мужчин. Один из них мастерски греб под тот берег, где сидел князь Вася. Проплыв под кленом, где сидел он, скрываясь в густой листве малинника, — за пологом его совсем невидимый, — лодка остановилась. Сидевший без дела в ней вспрыгнул на траву и свистнул так пронзительно, что эхо отдалось по берегам пруда, повторившись в густоте кленовой рощи. Не прошло минуты, как вблизи отдался такой же свист и из кустов выбежал поляк, попавшийся перед тем Васе навстречу в дверях палаца Очатовского, когда они приехали. Он подал руку призвавшему его свистком.