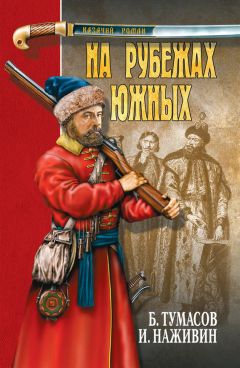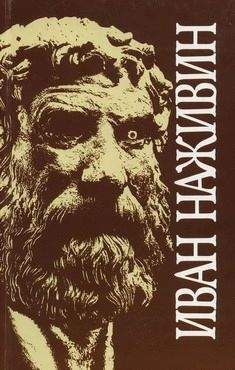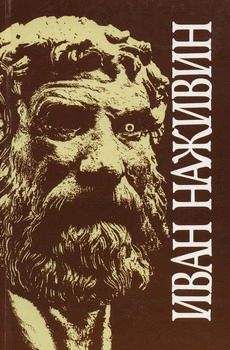Иван Наживин - Степан Разин. Казаки
– Ну, что жа, выходи, что ли!.. – кричали казаки. – Ага, Балалы и того испугались!.. Га-га-га-га... Погоди маленько, отведаете вы у нас Вольского дна!..
Вдруг с угловой башни блеснул к казакам длинный, белый язык, пыхнул и закурчавился белый клубок дыма и ядро, упав на мокрый вал, бросилось в кучу казаков и во что-то сочно шлёпнуло. Казаки брызнули во все стороны. На стенах захохотали. А на валу, в грязи, раскинув толстые руки, лежал в крови сине-багровый Тихон Бридун. Ядро угодило ему в живот и всё в нем сплющило, измяло и переломало. Высокая мохнатая грудь его, всхлипывая, трудно подымалась и опускалась...
Казаки, оглядываясь сторожко на крепостные пушки, заспорили тихо, как лучше снести старика в посад. Васька-сокольник – в осаде он что-то опять заскучал – за попом побежал...
Бридун ничего уже не сознавал. В душе старика нежным маревом стояло видение милой Украины. Вон хатка белая в садку вишнёвом, над сонным Пслом, и его Одарка с карими, ясными очами... И кровавый польско-татарский шквал, и гибель Одарки, и гибель беленькой хатки, и гибель всего... И Сеча буйная, и сверкающий Днепр, и задумчивые курганы в туманах утренних... И налёт на Анатолию солнечную, и тяжкий полон на турецкой каторге, в цепях, под ударами плетей нестерпимых, и налёт казаков, и радостное воскресение из мёртвых, и бои, и воля, и тоска, тоска, тоска... Да, то бандура поёт звенящими звуками своими, похожими на слёзы серебряных ангелов:
То не сизы орлы во святу неделю заклектали...
И всё тоньше, всё дальше, всё нежнее делается марево Украины милой и – всей его жизни...
– Кончился... – сказал кто-то тихо.
И корявые руки стащили потрёпанные шапки со вшивых голов...
Тем временем Степан сидел у себя дома, поджидая каких-то людей, которые, сказывали, только что пришли с Москвы. От нечего делать он перелистывал приходорасходную книгу хозяина дома, земского старосты, и читал его безграмотные записи: «Ходил к воеводе, нес пирог в 5 алтын, налимов на 26 алтын, в бумажке денег 3 алтына да свиную тушу в рубль, племяннику его рубль, другому племяннику 10 алтын, боярыне полтину, дворецкому 21 алтын, людям на весь двор 21 алтын, ключнику 10 денег, малым ребятам 2 алтына, денщику 2 алтына...»
За дверью послышались шаги, и в комнату вошли исхудалые, грязные и мокрые отец Евдоким и Пётр.
Они помолились на иконы и низко поклонились атаману:
– Здрав буди, атаман...
– А, старые знакомцы... – сказал Степан. – А я думал, кто... Все живы? Ну, садитесь вот на лавку, отдыхайте... Как там на Москве-то?...
– И в Москве, атаман, народ призадумался... – сказал отец Евдоким. – И дерзить стали властям предержащим... Вот как уходить нам, на торгу, на Красной площади, одного пымали за хульные речи. И говорил тот человек отважно, при всех, что совсем-де Степан Тимофееич не вор, а ежели-де подступит он к Москве, так надо выходить к нему почестно всем народом с хлебом-солью...
– Ну, и что же?
– А как полагается: отрубили руки и ноги, а обрубок потом повесили... – отвечал отец Евдоким, ухмыляясь.
– Так. Ещё что?
– А ещё... А ещё, – вдруг осклабился всеми своими жёлтыми, изъеденными зубами отец Евдоким, – ещё царь жениться задумал...
– Ах, старый хрен!.. – засмеялся Степан. – Кого же это он насмотрел себе?
– У боярина Матвеева, вишь, девка какая-то жила. Товар, говорят, самого отменного первого сорту...
– Ну, значит, на свадьбу надо поторапливаться казакам.
– Только вас и ждут... А то всё готово...
– Ну, а дорогой что?
– А дорогой, Степан Тимофеич, чистое столпотворение вавилонское... – сказал отец Евдоким. – От самой Оки мужики палят усадьбы господские, ловят и бьют приказных, начальных людей, помещиков. И такое-то делают, что иногда и у меня мурашки по-за коже бегают... А из Москвы разными дорогами всё к князю Долгорукому полки идут. И с Украины, вишь, этих... ну, как их?., драгунов, что ли, пёс их знает, взяли... А мужики везде на переправах их караулят, в лесах засеки устраивают, ямы волчьи по дорогам роют – много, много у тебя старателей-то, Тимофеич, ох как много!..
– А что в этом толку-то, в старателях-то этих, коли дело не по закону повели? – вдруг глухо сказал похудевший и как-то весь почерневший Пётр, тяжело вздохнув.
– Как не по закону?... – с удивлением посмотрел на него Степан. – Какого же тебе закону надобно?
– Не мне – я что?... – печально сказал Пётр. – Совестный закон людям нужен, а у вас пьянство великое, блуд, кровопролитие и всякая жесточь. Ты старую неправду новой неправдой покрыть хочешь. А люди, которые совестные, те правды искали, града грядущего... Погляди вон на себя: правда в золоте да в шелках не ходит. А ежели и есть на ризах её кровь, то не людская, а своя... – тихо добавил он, опуская голову.
– Это ты, брат, с попами дело обмозгуй... – засмеялся Степан. – Я по таким делам не мастак и от Писания говорить не умею – не учён!..
– Попы-то от этого, может, ещё дальше твоего... – тихо и скорбно сказал Пётр. – И...
Весь, до глаз, в грязи, в комнату ворвался Ягайка. Его круглое, плоское лицо было возбуждено, медвежьи глазки горели, и он едва переводил дыхание.
– От Казани большой сила идёт, атаман... – сказал он, задыхаясь. – Князь какой-то войско царское ведёт... Черемиса и наша чуваша хотел не пускай!.. Так и метёт...
– Верно?
– Свои глаза видела... – сказал Ягайка. – Лошадка упал – вот как торопился! Берегом идёт, трубам играт, тулумбас колотит – ай, большая сила!..
Степан встал.
– Ну, значит, надо встречать дорогих гостей...
Все вышли. Ягайка под навесом качал головой над своей загнанной лошадью, которая, мокрая как мышь, тяжело носила боками. Степан приказал часовым созвать всю казачью старшину, а сам пошел на вал, посмотреть, как и что там слышно.
– Да, а это ты, пожалуй, и в точку попал... – сказал отец Евдоким Петру, всё смеясь. – Раньше богатства были у больших людей – теперь казаки их себе подбирают, раньше приказные чёрный народ мучили, теперь чёрный народ всех терзает, раньше воеводы да монахи водки сладкие пили да девок себе, какие поспособнее, отбирали, теперь к казакам всё это переходит... И в сам деле, разницы как будто большой не предвидится... А? – взглянул он на Петра.
Пётр молча отвернулся: отец Евдоким становился всё более и более тяжёл ему. Как, чему тут смеяться, когда вся душа кровью исходит?...
XXX. Слово Москвы
От Казани, правым берегом Волги, ускоренными маршами шли ратные силы под командой окольничего князя Юрия Борятинского. Впереди головного стрелецкого приказа развевалось стрелецкое знамя: дороги зелёные, а на нём вышит крест дороги алыя. Путь был чрезвычайно тяжёл: от затяжного ненастья глиняные дороги раскисли невероятно, а кроме того, восставшие инородцы пользовались всяким случаем, чтобы из глухой засады осыпать царские войска дождём стрел и – бесследно исчезнуть в дремучих лесах. Воевода по приказу из Москвы захватил было с собой гуляй-городки, которые очень удобны, когда противник бьётся только лучным боем, как крымчаки или ногаи, но здесь их не пришлось ставить ни разу: повстанцы разбегались от первого выстрела так, что их и не догонишь...
Войска шли в дело «с резвостью», как говорили тогда. Шли стрельцы с резвостью потому, во-первых, что они жили в Казани много лучше, чем стрельцы астраханские и вообще низовые, были, большею частью, семейные люди, оседлые, зажиточные, которым всякие такие заводиловки были противны; во-вторых, потому, что большинство их были старообрядцы, а в воровском войске, верные люди сказывали, ехал сам патриарх Никон, на которого они смотрели с ненавистью и отвращением, как на вероотступника, который дерзнул в ослеплении гордыни своей проклясть не только их, но и святых угодников, крестившихся тоже двуперстно. А может, и потому обнаруживали стрельцы резвость, что в затылок им шли эти новые солдаты под командой иноземных офицеров. Офицеры-иноземцы никаких этих русских шуток не понимали и держали в своих частях такую дисциплину, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. А за солдатами, совсем сзади, под охраной рейтаров, колыхался и изнемогал обоз...
Симбирск был уже совсем близко. Окрестности жутко безлюдны. Деревни пусты совсем. Изредка виднелись по-над Волгой и по одевшимся в золото осени лесам чёрные пожарища от сожжённых господских усадеб да местами шумно кружилось вороньё вокруг повешенных. Впереди головного полка осторожно подвигались дозоры. И воевода – сравнительно молодой ещё, с небольшой белокурой бородкой и с сухим нервным лицом – ехал при головном полке.
Рядом с ним задумчиво ехал князь Сергей Одоевский. Стремянной приказ, в котором он служил, был оставлен в Москве для бережения великого государя. Но князь явился к царю и попросился на Волгу.
– Ну, и без тебя там народу теперь хватит... – сказал царь. – Чего ты это?
– Отпусти, великий государь. Если Одоевским первое место в Думе Боярской и на пиру царском, так им же первое место и в бою... – сказал князь.