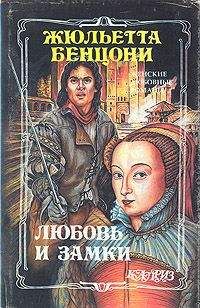Жюльетта Бенцони - Тайны Елисейского дворца
Едва двигаясь, она сняла с себя драгоценности, разделась. Тоненькой, гибкой, ей не стоило труда обойтись без горничной. Потом укуталась в красивый халат из белого льна, отделанный перьями марабу, и села у своего секретера. Поколебавшись секунду, она все же решилась и достала «красную книжечку»[51], отточила перо и принялась писать крупным быстрым почерком.
«Я не могу жить без него. Значит, нужно умереть. Я решилась, и ничто не может мне помешать. Я сумела достать достаточную дозу лекарства, чтобы нить моей жизни оборвалась. Милые мои дети, простите меня! Но боюсь, вы никогда не простите мне моего преступления! Ужасно вот так расставаться с жизнью! Но моя рука во власти другой, еще более виновной, потому что в ее силах остановить меня, но она протягивает мне смертельный кубок. Спасибо, Морис! Если я не могу принадлежать тебе, я буду принадлежать могиле. Прощай!»
Лаура положила перо и снова легла в постель. Она аккуратно расправила все складки на одежде, протянула руку и взяла на ночном столике флакон с лауданумом, осенила себя крестом и выпила его содержимое. Потом сложила руки на груди и в торжественной позе усопших на каменных саркофагах в соборах принялась ждать.
Однако лауданум бывает ядом лишь в особых случаях и в определенных дозах…
Когда Лаура открыла глаза, то оказалась не на светящемся облаке перед святым Петром, а в расплывающейся перед глазами собственной спальне, дверь свисала на одной петле, а ее саму мучили прозаические приступы тошноты.
– Вы нас очень напугали, госпожа герцогиня, вот все, что я могу вам сказать, – тихо пробурчал доктор Леруа, домашний доктор семейства Жюно, лечивший все их мелкие недомогания.
– Почему вы не дали мне умереть? – простонала Лаура.
– Потому что моя работа – помогать людям жить до тех пор, пока не придет их смертный час! Зачем вы сделали это? Получили дурные вести о генерале? Сколько уже недель мы ничего не знаем о них!
Так оно и было. На дворе стоял декабрь, и Франция ничего не знала о своей Великой армии.
Лаура продолжала болеть. 10 декабря появился двадцать девятый бюллетень. В нем сообщалось следующее:
«До шестого ноября погода стояла хорошая, и армия продвигалась с большим успехом. Холода начались седьмого ноября, и с этого момента каждую ночь мы сотнями теряли лошадей, которые умирали на бивуаках. Вернувшись в Смоленск, мы уже потеряли всех лошадей кавалерии и артиллерии…
Начавшийся седьмого числа холод к четырнадцатому и пятнадцатому увеличился, термометр показывал шестнадцать-семнадцать градусов мороза. Дороги покрылись льдом. Пришлось оставить и уничтожить большую часть обоза и военного снаряжения. Армия, великолепная шестого ноября, стала совершенно другой четырнадцатого: почти что без кавалерии, без пушек, без транспорта…»
Таким был этот бюллетень: честное и спокойное признание беспримерной катастрофы. Получив его после многих недель молчания, Франция была подавлена. А если прибавить к этому еще и кошмарную переправу через Березину… Как обычно, бюллетень завершало сообщение о здоровье императора. Говорилось, что оно «превосходно». И это скорее раздражило народ, уже взбудораженный «делом Мале». Генерал Мале, сидевший в тюрьме, сумел перевестись в госпиталь, а потом сбежал из него и с кучкой заговорщиков попытался совершить государственный переворот, объявив urbi et orbi о смерти Наполеона. За несколько дней опьянения мятежом он заплатил смертью на эшафоте вместе со своими сообщниками.
Дело Мале имело непредсказуемые последствия. Через два дня после опубликования двадцать девятого бюллетеня – всего только через два дня – император вернулся в Париж в сопровождении одного только Коленкура. Он приехал ночью в простой карете, почти без эскорта. Несчастная кампания и утомление от долгого пути с остановками только для перемены лошадей так изменили лицо Наполеона, что стража Тюильри не сразу узнала его: он постарел на десять лет. Но характер остался прежним: ванна, плотная еда, несколько часов сна, и император снова был в форме. Из наемной кареты он в один миг пересел на трон и… принялся сводить счеты. На беду, ему понадобилась и герцогиня д’Абрантес. Не прошло и двух дней, как она получила приказ прибыть во дворец.
Лаура еще не пришла в себя после своего опрометчивого решения, и ей вовсе не хотелось показываться перед Наполеоном в жалком виде. На приглашение она ответила отказом, сославшись на плохое самочувствие.
Гнев императора не заставил себя ждать.
– Вы привезете ее ко мне завтра вечером, – приказал император Дюроку. – Если она умирает, принесете на носилках!
– Сир! – Верный друг Дюрок попытался вступиться за Лауру. – Если герцогиня ссылается на нездоровье, значит, она больна. Ей иной раз недоставало почтительности, но мужеством она не обижена.
– А вы сочувствием к друзьям! Я сказал: завтра вечером! И вы лично можете собрать все клочки, когда я с ней расправлюсь!
На следующий вечер Дюрок сам ввел Лауру в кабинет императора, освещенный только огнем в камине и лампой под зеленым абажуром, стоящей на письменном столе. Наполеон сидел за столом и что-то писал своим крупным нервным почерком, однако же он сразу оставил перо, как только вошла Лаура. Ее реверанс был, как обычно, верхом красоты и изящества, но она была так слаба, что едва удержалась на ногах. Наполеон заметил это и спросил:
– Вы в самом деле больны или бьете на жалость?
Лаура мгновенно вспыхнула.
– Я никогда не искала ничьей жалости, сир! Я в самом деле больна и прошу у императора за это прощения.
– Да, вы выглядите неважно. Можете сесть. У вас желтое лицо и потухшие глаза.
Наполеон всячески хотел ей досадить, но Лаура не пошла у него на поводу, повторив уже сказанное.
– Я сказала императору, что больна.
– Уж не в Морфонтене ли вы подхватили свою хворь? Когда ездили туда ночью? Наверное, потратили много сил, пока прорвались без приглашения к королеве Испании и устроили там неприличную сцену?
– Прорвалась? Да нет. Я просто хотела… кое с кем повидаться…
– С маркизом де Балинкуром. Почему сразу не назвать имени?
– Действительно, почему? Мы любим друг друга, а одна из фрейлин королевы пытается отобрать его у меня…
Заговорив о возлюбленном, Лаура воскресла: глаза у нее заблестели, губы тронула улыбка. Узнав, что она больна, Морис приехал попросить прощения, так что между ними все опять было хорошо.
– Оригинальная любовь. Вы, кажется, влепили ему пару пощечин?
– Одну, но всерьез, не стану отрицать, сир! Я была не в себе. Он должен был приехать ко мне ужинать, и я ждала его понапрасну до тех пор, пока мне не принесли анонимное письмо…
– Довольно! Я не хочу ничего больше знать. Признаваться в грехах нужно со спокойной совестью. И все же, почему же вы так плохо выглядите? Вы беременны?
– Нет, сир, – ответила Лаура, слегка покраснев.
– Тем лучше для вас, если учесть, как ловко Жюно владеет золотыми ножничками. Так что же такое с вами?
– Я болела. Заболеть может каждый, тем более зимой, и я…
– А вы, случайно, не пытались покончить с собой?
Холодные голубые глаза смотрели прямо в душу, Лаура потеряла самообладание и лишилась голоса.
– Так я и думал! – хмыкнул Наполеон. – Вы с ума сошли или как? Умирать из-за какого-то красавчика, когда у вас есть дети и муж. Может, спросите у меня, как он живет и себя чувствует?
– Именно это я и хотела спросить, но император не дал мне такой возможности. Надеюсь, он здоров?
– Здоров, если можно говорить о здоровье в таких условиях. По своему обыкновению, он сражался как лев и получит…
– Вряд ли, я думаю, жезл маршала? – отважилась спросить Лаура.
– На этот раз нет, но это не значит, что он не получит его никогда! Мы не собираемся на этом останавливаться! А что касается вас, то, похоже, история с Меттернихом ничему вас не научила. Мне не нужны при дворе новые скандалы. И я решил отправить вас в изгнание, вы…
Крик Лауры помешал ему говорить дальше.
– Изгнать? Меня? Но куда же я поеду?
– Мне это безразлично. Главное – вы должны уехать. И как можно дальше. За пятнадцать лье[52], не меньше. Почему бы, например, не в Монбар к вашему тестю?
Неожиданное наказание вмиг поставило Лауру на ноги и в прямом, и в переносном смысле. Тогда как Наполеон вернулся за письменный стол, взял какую-то бумагу и принялся ее читать, дав понять, что аудиенция закончена.
Для него. Но не для Лауры.
– А что скажет Жюно, когда вернется?
– О нем не беспокойтесь. Мы найдем, что ему сказать. Я и без Меттерниха знаю, что вы на протяжении многих лет мешаете моей политике, принимая у себя подозрительных людей. Талейран, который предал меня, ваш друг…
– И де Нарбонн тоже. Он самый близкий мой друг.
– Оставьте де Нарбонна в покое. Он исключение, точно так же, как Фуше…