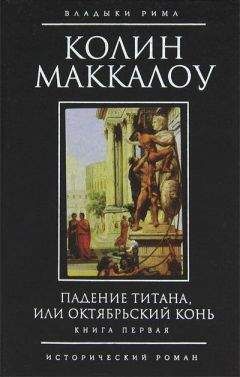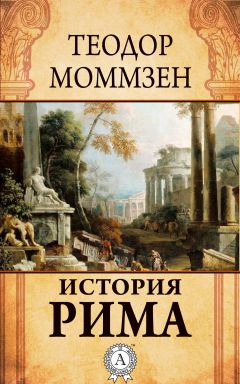Михайло Старицкий - Буря
— Убилась? — прошептал над Оксаной Пешта, приподымая ее с земли; глаза девушки были закрыты. — Ну, будет бесова штука, если еще расшиблась или сломала что- нибудь, — проворчал он сердито и потряс девушку за плечи.
— Убилась, что ли? — повторил он громче.
Оксана открыла глаза и, увидевши перед собою лицо Пешты, моментально очнулась. Пешта повторил свой вопрос.
— Нет, — ответила она слабым голосом, — только ушиблась.
— Счастье твое, что насыпало здесь снегу аршина на два, — проворчал Пешта, — не то бы добрый вареник доставил я Морозенку вместо тебя. А ты встань еще, осмотрись, не сломала ли чего?
Оксана поднялась с его помощью и ощупала свое тело.
— Нет, дядьку, — ответила она уже более бодрым голосом, — только ссадины.
— Ну, это ничего, до свадьбы заживет, — хихикнул Пешта. — Только ловко же ты, дивчыно, прыгаешь, верно, часто бегала из окна… А теперь за мною… да проворней, чтобы не успели захватить.
С помощью Пешты вскарабкалась Оксана на крутой берег обрыва и вскочила на оседланную лошадь.
— Скакать можешь? — спросил коротко Пешта.
— Скачите, не отстану, — прошептала Оксана, чуть не задыхаясь от биения сердца в груди.
— А меня же, панове, бросаете? — раздался вдруг из–за ели шипящий голос старухи.
— Ач, бесово помело! Как из земли выскочила! — отшатнулся даже конем Пешта. — Свят, свят с нами!
— Да что ты лаешься? А козацкое слово?
— Ступай за нами… на помеле… там в сани возьмем, а тут от тебя и кони храпут.
— Ах ты, зраднык! — крикнула баба. — Вот я вартовых всполошу зараз… Гей! Пыльнуй! — взвизгнула было она, но ветер завыл еще больше и заглушил ее визг.
— Только пискни, — поднял пистолет Пешта, — и твой смердючий мозг разлетится бесам на потеху; не дури: что с воза упало, то пропало! Оседлай ступу и догоняй нас. А ты, Оксана, гайда за мной!
Лошади понеслись.
— Погибель на вас! Проклятые, каторжные! Чтоб вы утра не дождали, чтоб вас нечистая сила… — гналась за ними, бредя по снегу, баба; но завирюха заметала ее проклятия. Вскоре Пешта свернул с прямой дороги и двинулся в чащу, ежеминутно колеся и сворачивая, чтобы запутать следы; впрочем, разыгравшаяся метель заносила их сразу волнами снега. Сучья елей цеплялись за волосы Оксаны, царапали лицо, железные стремена жгли ее босые ноги; но она не замечала ничего.
Исколесив так около часу по лесу, они натолкнулись наконец на группу всадников, которые, очевидно, поджидали их здесь.
— Наконец–то, — проговорил досадливо один из них. — Чуть не замерзли.
— Трудно было, — ответил Пешта, тяжело отдуваясь от быстрой езды, — проведите панну к саням, а сами скачите опять сюда назад, и двинемся в степь, чтобы спутать погоню: они подумают, что мы наткнулись на сани и, испугавшись, бросились опрометью в степь.
Всадник наклонил голову и, привязавши длинный повод к лошади Оксаны, двинулся вперед; с боку ее поскакал другой, впереди и позади по одному. Оксана очутилась под конвоем. Ей сделалось жутко… Зачем такая предосторожность? Разве она убежит от Олексы? Но нет, это сделано, вероятно, для того, чтобы защитить ее от нападения. Зачем он сам не встретил ее здесь? Сердце Оксаны болезненно сжалось.
Лес становился все мрачнее, в лицо жгуче бил мелкий сухой снег. Закутанные в черные кереи, мрачные фигуры молчаливо покачивались в седлах; где–то захохотал филин. Оксане стало страшно. Она оглянулась: всадники ехали подле нее так близко, что касались стременами ее ног.
— А где же Олекса? — спросила робко Оксана, обращаясь к тому, который показался ей старшим.
— Вот скоро увидишь. Поджидает в санях, — ответил тот, и Оксане почуялось, что в голосе его прозвучала насмешка.
Какой–то свист или стон по лесу… Лес все гуще… Молчаливо покачиваются черные фигуры, фыркают кони испуганно.
Но вот поредели сосны. Сквозь их стволы виднеется полянка. Темнеет что–то. Это сани. Сердце у Оксаны екнуло и замерло.
— Олекса! — вскрикнула она, порываясь с коня.
— Поспеешь! — усмехнулся ей всадник, и, пришпорив коней, они выехали на поляну.
В санях сидела какая–то фигура, завернутая, как и ее спутники, в длинный плащ с капюшоном на голове.
«Зачем он прячет свое лицо?» — промелькнуло молнией в голове Оксаны; но соображать было некогда. Подскакавши к саням, старшой ловко спрыгнул с коня и, схвативши Оксану, посадил ее в сани. Застоявшиеся лошади дернули, и сани полетели…
Плащ распахнулся… Оксану охватили сильные руки; хищное усатое лицо приблизилось к ее лицу.
— Чаплинский! — вскрикнула нечеловеческим криком Оксана, стараясь рвануться; но сильные руки крепко охватили ее.
— Да, Чаплинский, — прошептал над ее ухом с наглым смехом хриплый голос, — а сумеет обнять не хуже козака!..
XXXVI
Первое время после своего водворения в Чигирине Ганна еще долго не могла привыкнуть к шумной мирской жизни; она словно отвыкла от людей и ежедневных хлопот, но сами хлопоты эти, которых ей выпало теперь немало на долю, помогли ей отрешиться вскоре от той строгой сосредоточенности и молчаливости, что наложила на нее монастырская жизнь. Кроме того, ее до глубины души тронула радостная встреча детей. Охвативши шею Ганны, Катря и Оленка долго плакали тихими слезами у нее на груди, нежно прижимаясь, словно хотели рассказать этими безмолвными слезами, сколько горя вынесли за это время их молодые, детские души. Оторвавшись наконец от девочек, Ганна обняла Юрка, давно цеплявшегося уже за ее байбарак, поздоровалась с Тимком, который, несмотря на свою дикость, почеломкался с нею, вспыхнувши весь от радости, и оглянулась кругом. Ничего не сказала она, но тихий вздох вырвался из груди всех присутствующих. Двух лиц не хватало здесь для полного счастья — Оксаны и маленького Андрийка. Слезы выступили на глазах у Ганны и у молоденьких дивчат. С тех пор это стало горем, о котором и она, и они думали каждый день, но помочь ему не было никакой возможности… Так и зажила Ганна опять в старом гнезде, втянувшись в свои дела и обязанности; казалось, она никогда и не уходила отсюда; от пережитого горя осталось только легкое облачко тихой печали, не сходившее теперь с лица ее и среди самых веселых минут.
Часто вспоминала она с девочками пережитые ужасные дни: Особенно жаль ей было Оксану; она привязалась к ней, как к родной сестре. Когда Ганна вспоминала о судьбе, какая должна была постигнуть бедного ребенка, ужас охватывал ее всю; но поднять вопрос об освобождении Оксаны было теперь и невозможно, и напрасно. Одно удивляло ее, как это Морозенко не явился до сих пор сюда, чтобы хоть попытаться спасти свою маленькую Оксану, которую он так сильно любил. Это недоумение, впрочем, скоро рассеялось. Однажды к Богдану явился совершенно неожиданный и забытый гость, — гость этот оказался Шмулем. Увидевши Богдана, он бросился к нему с такой неподдельной радостью, что даже изумил всех присутствующих.
— Ой гот, гот![64] Тателе, мамеле, — закричал он, задыхаясь от радости, звонко потягивая носом, и бросился целовать руки Богдану, — пан писарь живый! Ой, ой! Живый и здоровый!
— А тебе–то что, или обрадовался? — усмехнулся Богдан, смотря на комичную фигуру жида.
— Что с того? Что с того? — повторил нараспев Шмуль, приподымая брови и утирая от волнения пальцами нос. — Пан писарь думает, что у Шмуля только пар, а у Шмуля есть сердце. О! — ткнул он себя пальцем в грудь. — И еще как тукает, ой–ой–ой!..
— Ну, а что же оно там тукает? — продолжал улыбаться Богдан.
— А то оно тукает, что не хочет больше без пана писаря жить! Пан писарь покинул Суботов, и Шмуль из Суботова; пан писарь в Чигирин, и Шмуль в Чигирин; пан писарь на Сечь, и Шмуль на Сечь; пан писарь на войну, и Шмуль на войну — вот что! — вскрикнул, мотнувши пейсами, жид.
— Го–го! Да как же ты расхрабрился Шмуль, будет еще из тебя запорожский козак! — рассмеялся Богдан, а за ним и все остальные. — А почему же ты покинул Суботов?
— Вей мир, вей мир! — замотал уныло головою Шмуль. — Что за гешефт без пана писаря? Знаю я вельможных панов, будут брать все наборг (в долг) да наборг, а когда жид скажет хоть слово за гроши, то жида за пейсы, на дуб — и ферфал! Пхе! — сплюнул он на сторону. — Буду я вже лучше за паном писарем жить!
— Потому, что с пана писаря кровь можно тянуть?
— Ой вей! — вздохнул жалобно Шмуль и оттопырил пальцы. — Бо всем надо жить; всех бог на жизнь сотворил!
Последний аргумент оказался столь вразумительным, что Богдан позволил Шмулю поставить новый шинок на той земле, что он купил в Чигирине. Среди многих новостей Шмуль сообщил между прочим и о Морозенко, о том, как он уговаривал его не ехать, зная, что из этого ничего не выйдет; но молодой рыцарь все–таки поскакал в глупую ночь в Чигирин да с той поры так и пропал.
Известие это как громом поразило и Богдана, и Ганну, и всю семью; с давних пор все привыкли считать Морозенка за сына Богданова, и честный, самоотверженный, добрый хлопец вполне заслужил всеобщую любовь.