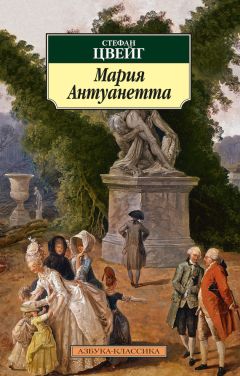Стефан Цвейг - Мария Антуанетта
Мария Антуанетта никогда не владела полезным искусством завоевывать симпатии и преданность людей интригами, расчетом, лестью. Но ее облику, ее душе присуще известное величие, которое на каждого впервые увидевшего ее производит чарующее действие. Ни отдельным людям, ни толпе не удается сохранить равнодушие: первое впечатление очень глубоко, оно сразу же располагает к ней (правда, при более близком знакомстве оно тускнеет). И на сей раз при появлении в зале молодой красивой женщины, величественной и в то же время обаятельной, офицеры и солдаты вскакивают со своих мест, восторженно выхватывают шпаги из ножен, шумным "Виват!" встречая повелителя и повелительницу, забыв, вероятно, при этом все предписания, данные им нацией. Королева идет по рядам. Она может обворожительно улыбаться, оставаясь удивительным образом приветливой и ничем себя не связывая, она может, подобно своей самодержавной матери, подобно своему брату, подобно, пожалуй, всем Габсбургам (и это искусство передается по наследству австрийским домом и в последующие десятилетия), сохраняя внутреннее непоколебимое высокомерие, быть естественнейшим образом вежливой и доступной с самыми простыми людьми, не впадая при этом в покровительственный, снисходительный тон. Искренне счастливо улыбаясь (как давно она не слышала "Vive la Reine!"), обходит она со своими детьми столы, и вид этой благосклонной, полной очарования, этой действительно царственной женщины, которая пришла к ним, грубым солдатам, как гость, приводит офицеров и солдат в состояние верноподданического экстаза: в этот момент каждый из них готов умереть за Марию Антуанетту. И королева, покидая приветствующий ее зал, тоже счастлива. Пригубив предложенный ей бокал, она отведала золотистого вина доверия: трон Франции имеет еще верных, надежных защитников.
Но уже на следующий день раздается барабанная дробь патриотических газет: трам–тарарам–там, трам–тарарам–там, королева и двор выставили против народа наемных убийц! Солдат опоили красным вином, чтобы они пролили красную кровь граждан, раболепствующие офицеры срывали, бросали на пол, топтали трехцветные кокарды, издевались над ними, пели антипатриотические песни, и все это при вызывающем смехе королевы. Патриоты, ужели вы еще ничего не поняли? Париж под угрозой, вражеские полки уже идут к нему. Пора, граждане, в последний бой, принимайте решение! Собирайтесь, патриоты, трам–тарарам–там, трам–тарарам–там…
***
Двумя днями позже, 5 октября*, в Париже начинаются беспорядки. И то, как они возникают, относится к одной из многих, до сих пор необъяснимых тайн французской революции. Ибо эти на первый взгляд стихийные волнения в действительности удивительно глубоко продуманы и организованы, политически искусно выполнены. Выстрел точен и целенаправлен: стреляла меткая, натренированная рука, умный стрелок прекрасно знал, куда и как надо стрелять. Насильно вывезти короля из Версаля, прибегнув для этого не к армии, а к толпе женщин, – мысль блестящая, достойная психолога столь же тонкого, как, например, Шодерло де Лакло, готовящего в Пале–Рояле поход за короной для герцога Орлеанского. Мужчин можно назвать бунтовщиками и мятежниками, в мужчин будут стрелять хорошо вымуштрованные солдаты. Женщины же в народных восстаниях выступают всегда только как отчаявшиеся, находящиеся в безысходном положении, от их мягкой груди отскочит самый острый штык, и, кроме того (подстрекатели учитывают и это), король, боязливый и сентиментальный человек, никогда не даст приказа направить пушки на женщин. Итак, сначала поднять возбуждение до предела – опять–таки неизвестно, чьими руками, посредством каких махинаций, – искусственно на два дня задержать подвоз хлеба в Париж, вызвать перебои со снабжением, усилить голод, единственную побудительную причину народного гнева, а затем, как только машина запущена, женщин поскорее вперед, женщин в первые ряды!
Действительно, молодая женщина ворвалась утром 5 октября в казарму и, как утверждают, рукой, унизанной кольцами, сорвала со стены барабан. Мигом вокруг нее собирается толпа женщин, громко кричащих о хлебе. Начинаются волнения, толпа растет, в нее вливаются переодетые мужчины, они–то и дают бурлящему людскому потоку определенное направление – к ратуше. Полчаса спустя ее берут приступом, захватывают пистолеты, пики, даже две пушки. И внезапно – кто его выдвинул, к какой партии, к какой группировке он принадлежит? – появляется вождь (имя его – Майяр), формирующий эту беспорядочную, эту беспокойную массу людей в армию, подстрекающий ее к маршу на Версаль, якобы за хлебом, на самом же деле затем, чтобы доставить короля в Париж. Слишком поздно, как всегда (такова уж судьба этого благородно мыслящего, честного неудачника – являться к месту происшествия с запозданием), прибывает на своей белой лошади Лафайет, главнокомандующий Национальной гвардией. Его задачей было, и он, естественно, хотел бы добросовестно ее выполнить, не допустить похода на Версаль, но солдаты не желают слушать его. Ему остается одно – вместе со своими солдатами сопровождать женскую армию, чтобы задним числом придать видимость законности открытому мятежу. Не больно–то почетная задача, он знает это, мечтатель–свободолюбец, и не рад ей. На своей знаменитой белой лошади едет за революционной армией женщин мрачный Лафайет, символ сдержанного, логически расчетливого, бессильного человеческого разума, тщетно пытающегося следовать за великолепной логичной страстностью стихии.
***
До полудня никто не подозревает о тысячеголовой опасности, движущейся из Парижа. Как всегда, королю подвели оседланную охотничью лошадь, и он ускакал в Медонский лес; королева, как обычно, ранним утром отправилась одна пешком в Трианон. Что ей делать в Версале, в гигантском замке, из которого давно уже бежал двор и лучшие друзья и возле которого в Национальном собрании каждый день factieux выносят новые, враждебные ей предложения? Ах, она устала от этого ожесточения, от этой борьбы в пустоте, устала от людей, устала от бремени королевской власти. Отдохнуть, посидеть пару часов спокойно, вдали от людей, в осеннем парке, которому октябрьское солнце расцветило листья багрянцем, золотом, медью. Собрать последние цветы с клумб, прежде чем придет зима, страшная зима, может быть, покормить китайских золотых рыбок в маленьком пруду или породистых кур. А затем отдохнуть, отдохнуть наконец от всех волнений и растерянности; ничего не делать, ничего не желать, сидеть со свободно опущенными руками у грота, в простом утреннем платье, с раскрытой книгой на скамейке, не читая ее, всем своим существом чувствуя усталость природы и осень в своем сердце.
Сидит королева в гроте на скамье, вырубленной в скале, – давно уже забыла она, что назывался он когда–то Гротом любви, – и видит на дороге пажа, идущего к ней с письмом. Она встает, идет навстречу. Письмо от министра Сен–При, он сообщает, что чернь идет на Версаль и королеве следует незамедлительно вернуться в замок. Быстро берет она шляпу, накидку и спешит во дворец своей легкой, стремительной походкой. Возможно, и не оглядывается она на маленький, любимый ею Трианон, на ландшафты, создание которых доставляло ей столько радости. Разве предполагает она, что последний раз в жизни видит эти мягкие луга, этот нежный холм с Храмом любви, осенний пруд, свою деревушку, свой Трианон, что это – прощание навсегда?
В замке министры, двор – все в беспомощном возбуждении. Неопределенные слухи о походе на Версаль исходят от слуги, которому удалось пробраться в замок, других слуг женщины задержали. Но вот к дворцу во весь опор мчится какой–то всадник, он соскакивает со взмыленной лошади и бежит вверх по мраморной лестнице; это Ферзен. При первых признаках опасности этот самоотверженно любящий человек прыгает в седло, скачет карьером, обгоняет армию женщин, "восемь тысяч Юдифей", как патетически назовет ее Камилл Демулен, чтобы в момент опасности быть возле королевы. Наконец появляется король. Его разыскали в лесу возле Порт–де–Шатильон, прервали его любимую забаву. С досадой опишет он вечером в своем дневнике скудные трофеи охоты с пометкой: "Прервана из–за событий".
И вот стоит он, озадаченный, с испуганными глазами. Начинается совет теперь, когда уже упущено все, поскольку в общем замешательстве забыли преградить авангарду мятежников путь к мосту у Севра. Еще есть пара часов, еще достаточно времени, чтобы принять решительные меры. Один министр считает, что королю следует верхом, во главе драгун и фландрского полка выступить навстречу толпе: уже одно его появление обратит орду женщин в бегство. Более осторожные, напротив, полагают, что если король и королева немедленно покинут замок и направятся в Рамбуйе, то вероломно задуманная угроза трону будет сорвана. Но Людовик, вечно нерешительный, колеблется, и сейчас, в который раз, из–за неспособности принять решение дает он событиям возможность натупать на него, вместо того чтобы бороться с ними. С закушенной губой стоит королева в окружении этих беспомощных людей, среди которых нет ни одного настоящего мужчины. Инстинктивно чувствует она, что любой акт насилия должен помочь, ибо с первой пролитой кровью каждый начнет страшиться каждого: "Toute cette revolution n'est qu'une suite de la peur"*. Но может ли она принять ответственность за все и вся? Внизу, во дворе, стоят кареты, кони запряжены, за час королевская семья с министрами и Национальным собранием, присягнувшим во всем следовать королю, может добраться до Рамбуйе. Но король все еще не дает знака к отъезду. С большей и большей энергией настаивают министры, и в особенности Сен–При: "Если Вас, Ваше величество, повезут завтра в Париж, корона будет потеряна". Неккера же больше заботит его популярность, нежели сохранение королевства, он возражает, и король, как всегда, словно безмолвный маятник, качается между двумя мнениями. Постепенно вечереет, кони внизу все еще бьют копытами в разыгравшейся к тому времени непогоде, лакеи ждут у карет, а совещанию все нет конца.