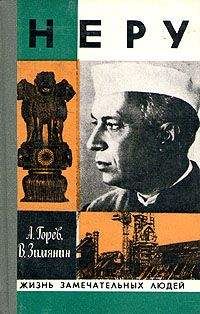Теодор Парницкий - Серебряные орлы
Аарон вскочил. Неужели это виделось ему во сне? Нет, он не засыпал, наверняка не засыпал — это было видение наяву. И оно поразило его. И память о нем тревожила его все дни приготовления к празднеству Ромула — грешные видения, он знал это, по вместе с тем чувствовал, что и блаженные, такие блаженные, как никогда доселе. Слушая рассказ Феодоры Стефании о сне, который она видела, он подумал в какой-то миг, что вместе со всей этой оравой смеющихся юнцов и девушек он с охотой отправился бы в подземное царство — смело бы обрушился на греческого арбалетчика, схватившись за меч, который подала бы ему какая-нибудь растрепанная, золотоволосая, зеленоглазая, полуголая, босая, рожденная благородной девушка. Подала бы ему оружие, улыбаясь и шепча: «Ты наш. Не бойся, ударь, ведь мы все с тобой…»
А потом вновь охватил его страх — вновь он чувствовал, что свершает грех. И когда папа запретил ему рассказывать об исповеди Тимофея, Аарон не мог отогнать мысль, что ведь это самый удобный момент рассказать о своих видениях: ведь это же касается его самого, а не Тимофея, так что это будет не разглашением тайны исповеди, а как бы своей собственной исповедью. Сильвестр Второй и тут было не дал ему говорить — думал, что он повторяет слова Тимофея. Но когда понял, в чем дело, стал слушать с большим вниманием. Особенно внимательно взглянул он на своего любимца, когда тот срывающимся голосом выдавил: «Пока мы есть, нет смерти; когда она есть, нас нет…» Положил ему руку на голову и вновь отечески сказал: «Очень боишься смерти, да?» И потом уже не прерывал до конца рассказа. Когда же Аарон кончил, Сильвестр Второй пообещал серьезно поговорить с ним об этих видениях. Только не сейчас, так как сейчас он хотел бы поговорить о другом.
И он встал и стал прохаживаться. Остановился у одного из светильников, чтобы поправить фитиль. Но узловатые старческие пальцы оказались неловкими — и светильник погас. Аарон вскочил, желая помочь, но папа остановил его:
— Мне твоя голова сейчас нужнее, чем руки. Не подведет она меня, Аарон, как и до сих пор не подводила? Я хочу доверить тебе нечто очень важное, хочу, чтобы ты сегодня исповедал императора.
Аарон онемел. Он должен исповедать Оттона? Чтобы перед ним преклонил колени владыка мира, почитающий свое величие частицей божьего величия?!
Папа должным образом понял безмолвный возглас в глазах любимца. Он подчеркнуто сказал, что именно перед ним, только перед ним, монахом-чужеземцем, еще зеленым священником, может быть, и соизволит преклонить колена могущественный император. Больше ни перед кем.
Оттон давно не исповедовался. Заявлял, что, когда немного освободится от обязанностей, которые налагает на него возрождение Римской империи, то уйдет в обитель, что в болотах под Равенной, и раскроет свою душу святому схимнику Ромуальду. Потому что никто больше во всем христианском мире не достоин, чтобы преклонилось перед ним величие Оттоново, являющееся частицей величия самого господа бога. Тщетно доказывал папа, что если император не причастится в канун рождества, то это вызовет всеобщее смятение умов. Оттон заявлял, что поскольку он первый из помазанников божьих на всем свете, то может причаститься без предварительной исповеди, о чем папа в свою очередь и слышать не хотел, серьезно предостерегая императора, что тот близок ереси. Оттон, как обычно, впал в безудержный гнев: кричал, что наместник Христа на земле, император, имеет право непосредственно общаться с богом… что он не допустит притязаний стоящих ниже его апостольских наместников… Но на сей раз Сильвестр Второй проявил неуступчивость, напоминая этим Григория Пятого. «Если твоя императорская вечность утверждает, что имеет право непосредственно общаться с богом, то пусть упросит святую троицу, чтобы ангелы принесли с небес тело и кровь Христову. Из моих рук без исповеди ты причастия не получишь». Оттон то молил, то грозил, топал ногами и катался по леопардовой шкуре — и наконец заявил, что исповедается, что немедленно пошлет канцлера архиепископа Гериберта в Равенну, чтобы тот привез пустынника Ромуальда. Папа с улыбкой пожал плечами, усомнившись, сможет ли даже глас ангельских труб заставить Ромуальда покинуть свою обитель. «Тогда не буду исповедоваться», — с гневными слезами заявил Оттон. «Тогда не получишь святого причастия», — сухо ответил папа.
Несколько дней они не разговаривали. Даже вовсе не виделись. Оттон не приезжал в Латеран, деля свое время между Феодорой Стефанией и Иоанном Феофилактом, который подробно уведомлял императора о ходе приготовлений к празднеству Ромула. Но когда выпал снег, послал канцлера Гериберта в Латеран с требованием, чтобы Сильвестр Второй немедленно явился в императорский дворец. «Я чувствую себя нездоровым и не покину дом в такую погоду», — заявил папа Гериберту. Не прошло и часа, как он уже встречал Оттона у себя. С явной тревогой в широко раскрытых глазах император спросил Сильвестра Второго, возможно ли, чтобы римские аббаты и приоры осмелились уклоняться от молений о даровании погоды. «Я точно знаю, что это так», — сказал папа. Оттон заметался по комнате, стал раздирать в клочья серебряную бахрому, украшавшую его голубое одеяние. «Сейчас же призови их всех к себе, строго прикажи молиться, а уклоняющимся пригрози проклятием!» — повелительно крикнул он. Папа пожал плечами и сказал, что никому проклятием грозить не станет, так как не хочет подвергать осмеянию величие Петра: он глубоко уверен, что монастыри его приказаний не послушают. «Не послушают?! — крикнул Оттон, ударяя кулаком о кулак. — Они посмеют не послушать?! Осмелятся оскорбить папу? Моего папу?!» — И он засмеялся. Оживленно и даже радостно потер руки. И сказал, что, если случится так, как говорит папа, императорское величество оживит празднество Ромула таким зрелищем, по сравнению с которым казнь Кресценция будет казаться легкой родительской поркой: Рим увидит венцы виселиц вокруг колонны Траяна и колонны Марка Аврелия, виселиц, на которых в своих ризах и стихарях будут болтаться все строптивые аббаты и приоры. И пусть Рим и весь мир затрепещут от священного ужаса нрн виде страшной казни, которой величие господне руками своего наместника, императора, подвергнет недостойных, неверных земных владык: Григорий Пятый справедливо бичевал их священным вервием, принятым из рук спасителя, но бичевать их этим вервием мало: он, Оттон, затянет вервие на их шее.
— Тогда ты повесишь и меня с золотыми ключами в руке, — спокойно сказал папа, — потому что я вовсе не удивляюсь их непокорству. Они правильно не хотят молить бога о том, чтобы он благоволил празднеству, которое они считают языческим торжеством.
Оттон взглянул на него с изумлением, с тревогой, чуть ли не с опаской. Это как же так? Ведь сам же папа склонял его — ревностнее чем кто-либо — к воскрешению праздника Ромула! Не он ли сам с жаром убеждал, что это будет великолепная возможность напомнить Вечному городу и миру о неизменности, бессмертии величия Рима, воплощенного в благословенном величии Цезаря Августа Оттона?!
— Ты сказал: «В благословенном величии». И правильно сказал. Но кем благословенном? Разве богами, которые были богами Ромула, основателя Рима? Нет, не ими, а богом триединым, тем, которого Ромул не знал. А как же ты сможешь убедить недоверчивых монахов, ненавидящих все напоминающее о старине, что он поймет, что не перед его ничтожеством я склоняюсь, а перед величием божьим, которое не его жалкой личности, а его священству даровало силу отпущения грехов, даже грехов самого императора… И не только он, все поймут, что потому и кается император перед самым жалким, ничтожным из божьих слуг, что нет в церкви такого лица, которое бы само по себе было достойно милости, чтобы пред ним склонилось величие императора… Когда я должен исповедаться? Сегодня? Сейчас? Я готов. Ступай найди какого-нибудь замызганного монашка…
— Не сейчас и не сегодня, — ответил папа, с трудом сдерживая волнение, — а когда настанет ясная погода, когда ты сможешь совершить триумфальный въезд в Рим, который падет на колени пред твоим величеством. И вот в день торжественного восхождения на Капитолий ты примешь из моих рук в соборе Петра причастие — по накануне, вечером, исповедаешься. Только поклянись мне святым мучеником Войцехом-Адальбертом, что никогда не посмеешь поразить своим гневом священнослужителя, которому откроешь свою душу… Я ведь читаю, сын мой, в твоих мыслях, как в открытой книге; я знаю, что миг назад ты тешил себя соображением, что ты же всегда имеешь возможность сделать так, чтобы вместе с жизнью стерлась с этой земли память, храпящая тайну твоей души… Поклянись, Оттон, встань на колени и поклянись!
Оттон встал на колени и поклялся.
— Я думал о тебе, сын мой, когда принуждал императора к клятве, — сказал Сильвестр Второй Аарону, закончив рассказ об упорной борьбе и ожесточенном сопротивлении гордой души Оттона. — Ты и есть этот самый незначительный, самый незаметный монах, которого должно ошеломить и ослепить солнце императорского величества, припадающее к ногам священнослужителя. Правда, я колебался до последней минуты, а теперь не колеблюсь. Потом расскажу почему.