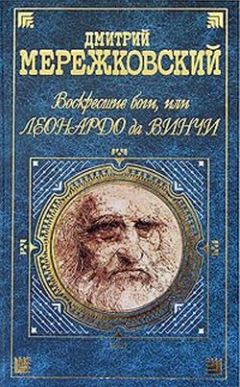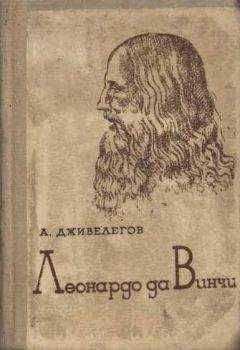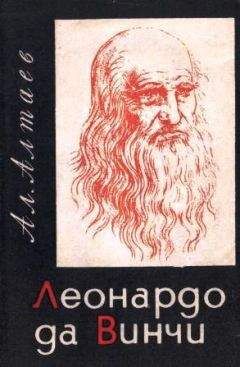Николай Стариков - Белая Россия
— А вона. Где каланча. Да поглядите, сзади вас афишка. Я обернулся. На стене было приклеено белое печатное объявление. Я прочитал, что жителям рекомендуется сдать имеющееся оружие коменданту города, в помещении полиции. Бывшим офицерам предлагается явиться туда же для регистрации.
— Ладно, — сказал я. И не утерпел, чтобы не поточить язык:
— А вы сами пскопские будете?
— Мы-то? Пскопские.
— Скобари, значит?
— Это самое. Так нас иногда дражнят.
Все просторное крыльцо полицейского дома и значительная часть площади были залиты сплошной толпою. Стало немного досадно: не избежать долгого ожидания очереди, а терпения в этот день совсем не было у меня в запасе.
Но я не ждал и трех минут. В дверях показался расторопный небольшого роста юноша, ловко обтянутый военно-походной формой и ремнями светлой кожи.
— Нет ли здесь г. Куприна? — крикнул он громко.
— Я!
— Будьте добры, пожалуйте за мною.
Он помог мне пробраться через толпу и повел меня какими-то нижними лестницами и коридорами. Меня удивляло, по правде сказать, немного беспокоило: зачем я мог понадобиться. Совесть моя была совершенно чиста, но в таких случаях невольно делаешь разные возможные предположения. Я же, как ни старался, не мог придумать ни одного.
Он привел меня в просторную полуподвальную комнату. Там сидел за письменным столом веснушчатый молодой хорунжий; что он казак, я угадал по взбитому над левым ухом лихому чубу (казаки его называют «шевелюр», ибо на езде он задорно шевелится). Ходил взад и вперед инженерный офицер в светло-сером пальто. И еще я увидел стоящего в углу моего хорошего знакомого, Иллариона Павловича Кабина, в коричневом френче и желтых шнурованных высоких сапогах, очень бледного, с тревожным усталым лицом. Офицер сказал ему:
— Я попрошу вас удалиться в другую комнату и там подождать.
Потом он подошел ко мне. Он был вовсе маленького роста, но полненький и щеголеватый, в своей прежней довоенной, саперной форме, весь туго подтянутый, с светло-стальными глазами в очках. Он назвал мне свою фамилию и сказал следующее:
— Я извиняюсь, что вызвал вас по тяжелому и неприятному обстоятельству. Но что делать? На войне, а в особенности гражданской, офицеру не приходится выбирать должностей и обязанностей, а делать то, что прикажут. Я должен вас спросить относительно этого человека. Я заранее уверен, что вы скажете мне только истину. Предупреждаю вас, что каждому вашему показанию я дам безусловную веру. В каких отношениях этот человек, г. Кабин, находился или находится к советскому правительству? Дело в том, что я сейчас держу в руках его жизнь и смерть… Здесь контрразведка.
О, как мне сразу стало легко. Я действительно мог сказать и сказал о Кабине только хорошее.
Да, он был комиссаром по охране Гатчинского дворца и его чудесного музея. Но такими же комиссарами назывались и пришедшие потом на его место граф Зубов и г. Половцев, чьи имена и убеждения выше всяких сомнений. Впоследствии он был комиссаром по собиранию и охранению полковых музеев и очень многое спас от расхищения. Кроме же этого, он всего неделю назад показал себя и порядочным человеком, и хорошим патриотом. В его руки, путем взаимного доверия, попали портфели Великого князя с интимной, домашней перепиской. Боясь обыска, он пришел ко мне за советом: как поступить ему. Так как меня тоже обыскивали не раз, а мешать сюда еще кого-либо третьего мне казалось безрассудным, то я предложил эту корреспонденцию сжечь. Так мы и сделали. Под разными предлогами услали его жену, двух стариков и четырех детей из дома и растопили печку. Ключа не было, пришлось взломать все двадцать четыре прекрасных сафьяновых портфеля и сжечь не только всю переписку, но и тщательно вырезать из углов золототисненые инициалы и короны и бросить их в печку. Согласитесь — поступок не похож на большевистский.
— Очень благодарю вас за показание, — сказал поручик Б. и потряс мне руку. — Всегда отрадно убедиться в невинности человека (он вообще был немного аффектирован). Г. Кабин! Вы свободны,— сказал он, распахивая дверь.— Позвольте пожать вашу руку.
Прощаясь с ним, я не удержался от вопроса:
— Кто вам донес на Кабина?
Б. поднял руки к небу.
— Ах, Боже мой! Еще с пяти часов утра нас стали заваливать анонимными доносами. Видите, на столе какая куча. Ужасно.
В коридоре Кабин кинулся мне на шею и обмочил мою щеку.
— Я не ошибся, сославшись на вас. Вы — ангел, — бормотал он. — Ах, как хотел бы я в серьезную минуту отдать за вас жизнь...
Тогда ни он, ни я не предвидели, что такая минута настанет и что она совсем недалека.
VIII. Широкие души
Когда я выбрался боковым выходом из полицейского подземелья на свет Божий, то был приятно удивлен. В соборе радостно звонили уже год молчавшие колокола (церковный благовест был воспрещен советской властью). Кроткие обыватели подметали тротуары или, сидя на карачках, выщипывали полуувядшую травку, давно выросшую между камнями мостовой (проснулось живучее, ничем не истребимое чувство собственности). Над многими домами развевался национальный флаг: Белый — Синий — Красный. «Что за чудо, — подумал я. — Большевики решительно требовали от нас, чтобы мы, в дни их торжеств, праздников и демонстраций, непременно украшали жилища снаружи кусками красной материи. Нахождение при обыске национального флага, несомненно, грозило чекистским подвалом и, наверное, расстрелом. Какая же сила, какая вера, какое благородное мужество и какое великое чаяние заставляли жителей хранить и беречь эти родные цвета!»
Да, это было трогательно. Но когда я тут же вспомнил о виденной мною только что горе анонимных доносов, которые обыватели писали на своих соседей, то должен был признаться самому себе, что я ничего не понимаю. Или это та широкая душа, которую хотел бы сузить великий писатель?
И сейчас же, едва завернув за угол полицейского дома, я наткнулся на другой пример великодушия.
Шло четверо местных учителей. Увидя меня, они остановились. Лица их сияли.
Они крепко пожимали мою руку. Один хотел даже облобызаться, но я вовремя закашлялся, закрыв лицо рукою. «Какой великий день! — говорили они. — Какой светлый праздник!» Один из них воскликнул: «Христос Воскрес!», а другой даже пропел фальшиво первую строчку пасхального тропаря. Меня покоробило в них что-то надуманное, точно они «представляли».
А учитель Очкин слегка отвел меня в сторону и заговорил вполголоса, многозначительно:
— Вот теперь я вам скажу очень важную вещь. Ведь вы и не подозревали, а между тем в списке, составленном большевиками, ваше имя было одно из первых в числе кандидатов в заложники и для показательного расстрела.
Я выпучил глаза:
— И вы давно об этом знали?
— Да как сказать?.. месяца два.
Я возмутился:
— Как? Два месяца? И вы мне не сказали ни слова.
Он замялся и заежился:
— Но ведь согласитесь: не мог же я? Мне эту бумагу показали под строжайшим секретом.
Я взял его за обшлаг пальто.
— Так на какой же черт вы мне это сообщаете только теперь? Для чего?
— Ах, я думал, что вам это будет приятно...
...Ну и отличились же вскоре эти педагоги, эти ответственные друзья, вторые отцы и защитники детей!
Одновременно с вступлением белой армии приехали в Гатчину на огромных грузовых автомобилях благотворительные американцы. Они привезли с собою — исключительно для того, чтобы подкормить изголодавшихся на жмыхах и клюкве детей, — значительные запасы печенья, сгущенного молока, рису, какао, шоколаду, яиц, сахара, чая и белого хлеба.
Это были канадские американцы. Воспоминания о них для меня священны. Они широко снабжали необходимыми медицинскими средствами все военные аптеки и госпитали. Они перевозили раненых и больных. В их обращении с русскими были спокойная вежливость и христианская доброта — сотни людей благословляли их.
Со своей североамериканской точки зрения они, конечно, не могли поступить более разумно и практично, как избрать местных учителей посредствующем звеном между дающей рукой и детскими ртами. Ведь очень давно и очень хорошо, с самой похвальной стороны известен престиж американского учителя в обществе.
Но известно также — по крайней мере нам, — что в России «особенная стать». Таким густым, обильным потоком полилось жирное какао в учительские животы, такие живописные яичницы-глазуньи заворчали на их учительских сковородах, такой разнообразный набор пищевых пакетов наполнил полки учительских буфетов, комодов, шкафов и кладовок, что добрые канадцы только ахнули. Да надо сказать, что учительницы, которым доверяли детские столовые, оказались не лучше. Но эти злые мелочи не отвратили и не оттолкнули умную американскую благотворительность от прекрасного доброго дела.