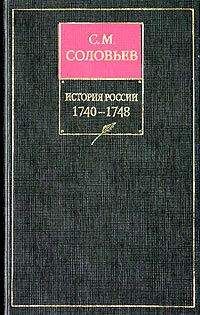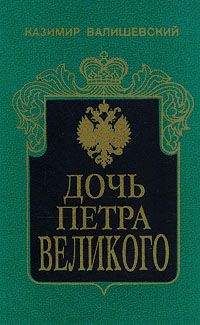Всеволод Соловьев - Волтерьянец
— Я не могу оправдать такого поступка, — сказал Сергей, — и все это кажется мне недостойным.
— То-то вот кажется, батюшка, мало вы нагляделись! Потерпите, вот поживете с нами, так и сами увидите, что с цесаревичем иной раз трудно ладить, — поневоле на всякие хитрости пустишься. Добрый человек, уж такой добрый, что и на всем свете не сыщешь, а не так сказал, оплошал малость — и невесть как накинется. Что ни год — то хуже. Совсем его раздражили, совсем замучили! Иной раз к нему и притронуться невозможно, вот ровно к человеку, у которого все болит… А Федора Васильевича вы не браните, да шельмоватостью не упрекайте — оно смешно только, а он человек хороший, доброжелательный.
— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Сергей. — Мне Ростопчин самому очень нравится, и я вместе с вами полагаю, что ему его хитрость простить еще можно, а вот я хотел вас спросить, по старому приятельству нашему, что вы думаете о другом человеке, с которым я здесь познакомился и который, как мне кажется, в большом доверии у великого князя.
— О ком вы это сударь?.. Ну да уж по лицу вашему вижу о ком — об Аракчееве?
— Угадали! Но при чем тут лицо мое?
— Гримаску, батюшка, сделали — не по нраву вам наш Аракчеев. Я уж это не впервой замечаю.
— Я, видите ли, мало знаю его, могу ошибаться, только действительно он как-то не внушает к себе особенного доверия.
Кутайсов улыбнулся.
— Да, этот другого сорта. Этого, признаться, и я недолюбливаю. И уж не знаю, как сказать: достаточно ли в нем качеств, чтобы забыть о его дурных свойствах. Только по нраву он нам, или не по нраву, а этому человеку тоже предстоит большая роль: цесаревич о нем — ух, какого мнения! И ничем того мнения поколебать невозможно. А что такое Аракчеев — мужик, как есть мужик! Ума в нем нельзя сказать, чтоб было много. Он вот хвастается — я, мол, учился на медные гроши, а лучше всяких ученых да умников свое дело знаю!.. И врет он, извините вы меня, и хвастаться тут нечего — я вот тоже на медные гроши учился, так вижу, что нечем тут хвастаться, и, напротив, так полагаю, что кабы вот времени у меня было теперь довольно, так снова за указку бы принялся. Ищешь, как бы что узнать полезное, да с умным, ученым человеком потолковать, вот хотя бы с вами, Сергей Борисыч! Узнать: как, что и почему, как о том да о другом в науке сказано. А он, вишь ли — «наука вздор, одно усердие нужно!» Ну, и выезжает этим усердием. И так цесаревич полагает, что усерднее полковника Аракчеева никого и не найти ему. Чем взял — ума не приложу! Медведь неотесанный, ни кожи, ни рожи, только и знает свою маршировку, а смотрите, он и инспектор здешней пехоты, и губернатор гатчинский. А уж людей-то как мучает! Что слез из-за него пролилось! Солдаты-то еле живы — по двенадцати часов в день на ученье их держит. Из сил солдат выбьется — так его палкой! Аракчеев только и повторяет — «где ученье, там и палка!» А потом и то заметьте: ни до кого до нас ему нет никакого дела, ни с кем не сходится и все равно ему, любим мы его, али нет. «Я, — говорит, — свое дело знаю и больше знать ничего не хочу».
— Да что же, ведь в этом он совершенно прав, — заметил Сергей. — Это ведь, в сущности, есть настоящее отношение к службе.
— Так точно. Оно так, сударь, да ведь это слова только! Жестокий он человек, Аракчеев! Ему солдат все равно, что кукла. Он жизнь человеческую ни в грош не ставит: хоть перемри все, лишь бы его высочество сказал ему «спасибо» — так уж это что ж! Это уж не служба… Это уж зверство называется.
— Ваша правда! Так вот, значит, я и не виноват, что гримаса у меня выходит, когда думаю об Аракчееве. Значит, вы согласны со мною?
— Как, батюшка, не согласиться! Да тут только ничего не поделаешь — не избавимся мы от этого лютого зверя, и много еще он бед понаделает, увидите.
Так сидели они и беседовали.
Осенние сумерки уже быстро набегали. Из окон слышались далекие звуки военной команды, мерно постукивал маятник, сверчок чикал где-то за печкой.
Беседа вдруг смолкла. Иван Павлович зевнул и отклонился на спинку кресла.
— Засните-ка, — сказал Сергей, — отдохните, а и мне пора, чай, уж меня поджидают.
И с горячо забившимся сердцем он поспешил в комнаты Тани, где его действительно ждали.
VIII. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Ламбро-Качиони, по-видимому, намеревался оправдать рекомендацию Зубова, — по крайней мере, императрица объявила всем приближенным, что чувствует себя несравненно лучше.
Она переехала из Таврического в Зимний дворец и, хотя не показывалась перед публикой, но продолжала вести свою обычную трудовую жизнь: каждое утро рано вставала, внимательно выслушивала доклады, писала, интересовалась самыми разнообразными делами и не покидала своей любимой мысли устроить-таки в конце концов бракосочетание короля Шведского с Александрой Павловной.
По вечерам иногда собиралось в Эрмитаже, как в прежние годы, ее интимное общество.
Она появлялась, — по-видимому, бодрая и свежая, шутила с Львом Александровичем Нарышкиным, садилась за карточный стол с Зубовым и Безбородко. Даже Морков, подвергшийся было сильному с ее стороны неудовольствию и на одном себе выносивший все последствия неудачи одиннадцатого сентября, снова стал получать знаки ее внимания. Она была с ним любезна и ни одним намеком не возвращалась к недавним событиям. Она так держала себя, будто ничего не случилось, и, одобренные ею, все мало-помалу стали успокаиваться и возвращаться к прежней жизни.
Одна только Марья Саввишна Перекусихина, эта простодушная и скромная старуха, бывшая, однако, в течение долгих лет чуть ли не самым близким другом Екатерины и ее наперсницей, с каждым днем все казалась задумчивее и печальнее. Иногда ее заставали в слезах; но на вопросы о том, что означают эти слезы, она упорно молчала, поспешно вытирала глаза и заговаривала о чем-нибудь постороннем. Только она одна, по многим несомненным для нее признакам, не доверяла этому внезапному улучшению в здоровье императрицы, этому нежданно вернувшемуся благоденствию. Но на Марью Саввишну, пока не требовалось прибегать к ее доброте и всегдашней готовности услужить ближнему, обращали мало внимания.
К концу октября стала зима, выпало много снега, мороз держался от трех до пяти градусов. Екатерина объявила, что желает выехать прокатиться в санках. Однако намерения этого она не выполнила.
Второго ноября, утром, она никого не принимала. По дворцу разнеслась весть, что у императрицы всю ночь были сильные колики, так что она заснула только под самое утро. Однако к обеду она вышла из спальни и на тревожные вопросы внуков и внучек отвечала, что чувствует себя хорошо, что действительно были колики, но совсем прошли и что это пустое…
В эти дни у Сергея Горбатова было много хлопот. Все приготовления к принятию новой хозяйки были сделаны в его доме. Он сам все осматривал, совещался с Моськой, закупал богатые подарки своей дорогой невесте. Свадьбы теперь уже недолго осталось дожидаться, она должна была совершиться на днях в Гатчине. Цесаревич и великая княгиня благословят жениха с невестой, и после венца молодые отправятся прямо в Петербург. Не так предполагалось сначала: свадьба должна была отпраздноваться со всею пышностью, но цесаревич вдруг решил, что будет так. И, конечно, ни Сергей, ни Таня не стали с ним спорить. Они были очень рады избежать в такой торжественный для них день пышности, присутствия людей совсем посторонних.
Четвертого ноября Сергей совсем было собрался в Гатчину, как вдруг к нему заехал Лев Александрович Нарышкин.
— Куда это ты, друг любезный? — спросил он, входя и видя дорожные приготовления Сергея. — Опять в путешествие! Но на сегодня моя будущая племянница тебя подождать должна, сегодня тебе в Гатчину ехать никоим образом невозможно…
— Что же, я опять арестован, что ли? — улыбаясь, сказал Сергей. — С вами, дядюшка, с полчаса побеседую, если угодно, а уж потом не задерживайте…
— Не поедешь ты нынче в Гатчину. Слушай-ка, государыня пожелала тебя видеть, ведь ты еще не представлялся ей после твоего пожалования в камергеры?
— Да ведь не было приемов, дядюшка!
— Знаю, знаю, и не нужно тебе официального приема, государыня приглашает тебя нынче вечером в Эрмитаж… Понимаешь, ведь это такая милость, которою теперь кроме нас, стариков, никого не удостоивают. И представь ты себе, как перекосит твоего друга, светлейшего князя Платона Александровича, он ничего не знает. Это в некотором роде сюрприз для него готовится. Мы с тобой вместе приедем, так приказано. Помнишь, как когда-то, давно, когда я в первый раз представлял тебя?
Как ни был теперь Сергей равнодушен ко всему, что не касалось до Тани, но все же он почувствовал некоторое удовольствие.
— Да, в таком случае поездку в Гатчину действительно отложить придется… Поедет один Степаныч, — сказал он.