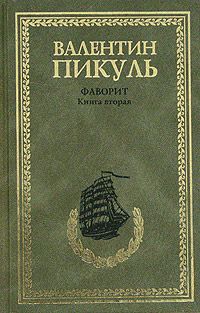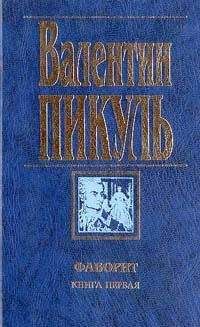Валентин Пикуль - Фаворит. Том 1. Его императрица
Келлермейстер Ушаков, ведавший при Елизавете винными погребами, давно умер, а вдова его вышла за Рубановского, и, по всему видать, у них винные запасы имелись, потому что на столе открыто стояли мушкатели, тенерифы и венгерское. Возле бутылок пристроился капрал Морского кадетского корпуса.
– Садись, – сказал он. – Выпей.
Был он парень крепкий, скуластый, кулаки здоровые. Такой даст – не сразу встанешь. Назвался же Федором Ушаковым, потом явился еще гардемарин – этот был Санькою Ушаковым.
– Сколько ж тут вас Ушаковых? – дивился Прошка.
– Сейчас третий придет – тоже Федька…
Спросили они Прошку – откуда он взялся?
– А я сирота… плотник… из Архангельска.
– Много жалоб на вас, на сироток эдаких.
– Это кому ж мы так насолили?
– Флоту российскому, ядрен ваш лапоть, – отвечал капрал Ушаков. – Корабли гоните, скороделы, из лесу непросохшего.
Прошка разъяснил, что Соломбала хотя и очень приятна, но все-таки еще не Гавана: погода сыренькая, солнышка маловато, одно бревно сохнет, рядом с ним десять других червяки жрут.
– Гробы плавающие, – ругнулся Федор Ушаков, закусывая тенериф редькою. – Топить бы всех с топорами на шеях… Эвон, сказывали мне, у султана турецкого флот превосходный.
– Так им французы тулонские мастерят…
Залаяла шавка. Прямо из сеней, промерзшие, заявились еще двое – Федор Ушаков и Александр Радищев.
Прошке выпало подле Радищева сидеть.
– Мундир-то у тебя какой службы будет?
– Я паж ея императорского величества.
– И царицу нашу видывал, значит?
– Вчера только с дежурства придворного.
Поморскому сыну было это в диковинку:
– Ну, и какова у нас царица-то?
– Обходительная, – ответил Радищев.
– А что ест-то она? Что пьет?
– Да все ест и все пьет… не ангел же!
– Эй, Настя! – гаркнули Ушаковы. – Тащи огурцов нам.
Из темных сеней шагнула девка красоты небывалой. Без смущения, даже с вызовом, оглядела молодежь и заметила Прошку:
– Господи, никак, еще новый кто-то у нас?
– Сирота, – указал на него капрал вилкою.
– И я сиротинка горькая, – ответила краса-девица.
Пажи ее величества обрадовались, крича хором:
– Так вас обоих сразу под венец и отволокем.
– А кто он? – спросила Настя.
– Плотник.
– Фу, – отвечала девка. – На што мне его?
Федор Ушаков (не паж – моряк) хохотал пуще всех:
– Ой, глупа девка! Так не сундуки же он мастерит. Плотник-то корабельный. Ему ж фортуна посвечивает – в офицеры! Глядишь, и полвека не пройдет, как он в майоры выберется.
Настя удалилась в темноту сеней, а мушкатель еще быстрее стал убывать под соленые огурчики.
– Вкусное вино. – похвалил Радищев.
– Чего ж в нем хорошего? – фыркнул Прошка.
– Из погребов покойной Елизаветы, сама пила.
– Да в Лиссабоне такое вино нищий пить не станет.
– Ври, ври… – заметил Федор Ушаков (паж).
– …да не завирайся, – добавил Федор Ушаков (капрал).
Прошка к нему лицом обернулся:
– Да ты сам-то плавал ли где, кадет?
– Уже до Ревеля и Гогланда бегал.
– Недалече! Мог бы и помолчать в гальюне, когда на камбузе умные люди «янки-хаш» делают. Меня-то бес куда не носил только. И потому говорю без вранья, что ваш мушкатель – дрянь…
– Наш плотник уже пьян, – решили пажи.
Прошка всерьез обиделся:
– Плотник, плотник… Что вы меня топором-то моим попрекаете? Так я в стружках с опилками не заваляюсь. Вижу, что никто здесь не верит мне. Тогда слушайте – я спою вам. Спою по-англицки.
Наш клипер взлетал на крутую волну,
А мачты его протыкали луну.
Эй, блоу, бойз-блоу, бойз-блоу.
На клотик подняли зажженный фонарь:
Спасите! Мы съели последний сухарь.
Эй, блоу, бойз-блоу, бойз-блоу.
В твиндеках воды по колено у нас.
Молитесь! Приходит последний наш час.
Эй, блоу, бойз-блоу, бойз-блоу…
– Этот парень не врет, – сказал Федор Ушаков.
Расходились из гостей поздно. Радищева поджидали у ворот санки с кучером и лакеем на запятках. Он отъехал, помахав ручкой. Ушаков проводил его долгим взором:
– Пажи богаты, на флоте таких не видать. Это мы идем на моря, сермяжные да лапотные, единой репой сытые…
На невской набережной устроили расставание.
– Свидимся ли еще? – взгрустнул Прошка.
– На морях люди чаще, чем на земле, встречаются…
Вприпрыжку парень пустился через Неву, навстречу огням адмиралтейских мазанок, где веет чудесное тепло от печурок, где сохнут онучи, где над кадушкой с квасом до утра будут шуршать тараканы.
Эх, до чего же хорошо живется на белом свете!
Действие пятое
Канун
Можно сказать, милостивый государь мой, что история нашего века будет интересна для потомства. Сколько великих перемен! Сколько странных приключений! Сей век наш есть прямое поучение царям и подданным…
Денис Фонвизин (из переписки)1. Лежачего не бьют
Потемкин давно никого не винил. Даже не страдал. Одинокий, наблюдал он, как через щели в ставнях сочится яркий свет наступающей весны… Историк пишет: «Целые 18 месяцев окна были закрыты ставнями, он не одевался, редко с постели вставал, не принимал к себе никого. Сие уединенное прилежание при чрезвычайной памяти, коей он одарен был от природы, здравое и не рабское подражание в познании истин и тот скорбный образ жизни, на который он себя осудил, исполнили его глубокомыслием».
Средь ночи Потемкина пробудил женский голос:
– Спишь ли? Допусти до себя…
Он запалил свечи. Сердце бурно колотилось.
– Кому надобен я? – спросил в страхе.
А из-за дверей – голос бабий, воркующий, масленый:
– Да ты хоть глянь, как хороша-то я… утешься!
Потемкин бессильно рухнул перед киотом:
– Господи, не искушай мя, раба своего…
Утром он получил записку. «Весьма жаль, – писала ему неизвестная, – что человек столь редкостных достоинств пропадает для света, для Отечества и для тех особ, кои умеют ценить его». Потемкин метался по комнатам, расшвыривал ногами стопы книг, уже прочитанных, и тех, которые еще предстояло прочесть… Историк продолжает: «Некоторая знатного происхождения молодая, прекрасная и всеми добродетелями украшенная дама (имени коей не позволяю себе объявить), ускоряя довершить над ним торжество свое, начала проезжаться мимо окошек дома, в котором он жил…» Одиноким глазом взирал Потемкин сквозь щели ставней, как в лунном сиянии, словно призрак, мечется под окнами богатая коляска.
Он стал бояться ночей. Уже не раз звали его:
– Да пусти меня к себе… открой, я утешу тебя!
Обессилев, Потемкин растворил двери, и на шее его повисла Прасковья Брюс, жарко целуя его…
Утром графиня отбыла во дворец с докладом Екатерине:
– Форты сдались, и крепость пала.
– Хвалю за храбрость! Поднимем же знамена наши…
В доме Потемкина появился Алехан Орлов, посмотрел, что на постели – войлок, подушка из кожи набита соломкой, а в ногах – худой овчинный тулупчик.
– Не слишком ли стеснил себя скудостью?
– Эдак забот меньше, – пояснил Потемкин.
Алехан поднял с полу одну из книг, раскрыл ее – это было сочинение Госта об эволюциях флотских. Бросил книгу на пол:
– Ныне я, братец, тоже флотом увлекся. – Потом сказал Потемкину, чтобы сбирался в Зимний ехать. – Без тебя возвращаться не велено, таково желание матушки нашей… Шевелись, братец!
Постриг он ногти и волосы. Белая косынка, скрученная в крепкий жгут, опоясала голову, скрывая уродство глаза.
Екатерина встретила отшельника строго:
– Наконец-то я вижу вас снова… Из подпоручиков жалую в поручики гвардии! Кажется, ничего более я не должна вам.
* * *Правил он в полку должность казначейскую, надзирал в швальнях за шитьем солдатских мундиров. Писал стихи. Писал и рвал их. Сочинял музыку к стихам разодранным, и она мягко растворялась в его одиночестве, никого не взволновав, никому не нужная. А в трактире Гейденрейха, где всегда были свежие газеты из Европы, случайно повстречал он Дениса Фонвизина:
– Друг милый! А где ноне Яшка Булгаков?
– Яшке повезло: его князь Николай Василич Репнин с собою в Варшаву взял, он при посольстве его легационс-секретарем… Говорят, картежничает – ночи нет, чтобы в прах не продулся!
О себе же поведал, что служит при кабинет-министре Елагине для принятия прошений на высочайшее имя, а самому писать некогда. Выбрались из трактира. Ладожский лед давно прошел. Петербург задремывал в чистоте душистой ночи; на болотах города крутились винты «архимедовых улиток», вычерпывая из ям воду…
– Чего не спросишь, Денис, куда глаз подевался?
– Говорят разно: бильярдным кием вытыкнули или…
Потемкин сказал ему, что придворная служба уже мало влечет. Желательно вкусить славы военной:
– Даже окривевший, а вдруг пригожусь?..
Вечером он разрешал на доске шахматную задачу Филидора, когда слуга доложил, что какой-то незнакомый просится: