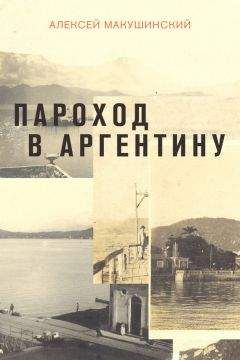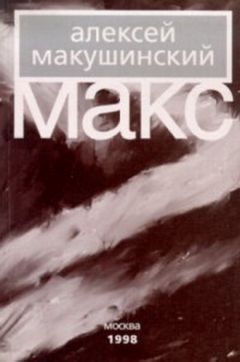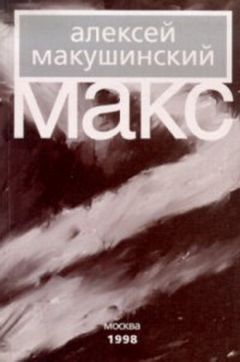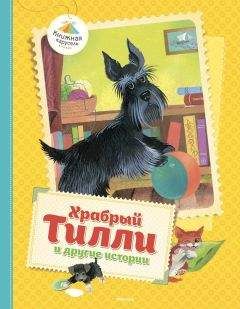Димитрий - Макушинский Алексей Анатольевич
Я выходил во двор; во дворе был каток. Были горящие окна, дети в вязаных шапочках, их клюшки, обмотанные обтрепанной изолентой (у кого черно-серой, у кого ярко-синей), их крики, гики, острый скрип коньков, глухой стук шайбы о дощатые бортики. Кто болеет за «Спартак», тот придурок и дурак. Кто болеет за «Динамо», у того на жопе яма. Слышь, Старшинов, отдавай мяч Майорову. Мой мяч, мой мяч, не отдам, не отдам. Какой мяч? Шайбу, шайбу. А мне все равно, все равно. Наплевать мне (с наслаждением пишет Димитрий). Будете еще мне указывать. Еще… еще там бывали снеговики. Нет, мистер, не на самом катке, где-то возле. Нам такой хоккей не нужен. Понимаешь, Эспозито? Не на самом катке, но где-то возле катка там, сударыня, бывали снеговики, снежные бабы-с; бабы-с, понимаете, снежные-с. Или там бывал один снеговик, одна баба-с. На большее тех детей не хватало, тех детишек, старшино-майоровых. У них и фантазия была небогатая. Они лепили сперва один шар, катили его по снегу, потом другой шар громоздили на первый, потом третий, потом невинную морковку втыкали в него вместо носа. Морковка была красная-красная, все вокруг было белое-белое. А я-то получше снеговики, помудренее снеговики, позатейливей снеговики делал и слугам своим приказывал делать там, в Угличе (с оживающей страстью пишет Димитрий); в углу мира (пишет Димитрий); я прямо снежные статуи делал и приказывал делать там, в Угличе; в моем углу; в углу мира; сам наряжал их, украшал их разными тряпками. В углу мира угли втыкал им в головы, чтобы смотрели они на меня. Они на меня, я на них. Вот Шуйский, вот Воротынский. А вот, главное, Годунов, узурпатор моего трона. Шапку на него наденем, кафтан напялим поярче. И угли выберем самые черные, еще измажем его золою. Вот он, брюнет такой. А теперь давай, царевич, сабелькой, сабелькой. И какое же это было счастье, сударыня. Сперва одному срубишь голову, потом другому, потом медленно-медленно, тихонько-тихонечко подберешься к проклятому Годунову — и хрясь, уж он и без головы. Вот она, голова-то, вот она катится. Голова катится, уголья глядят на тебя. Молодец, царевич, так его, так его. И глазищи ему давай выколи, угли выковыряй. Как Шемяка, твой тезка, ослепил твоего прапрадеда, отправил его в тот же Углич. Люблю Шемяку, за одно его прозвище. И за то, что он тоже Димитрий. Мы все потомки Димитрия Донского, во всех течет благородная кровь. Какое счастье, какая злоба пела в груди, как снег скрипел, как солнце сияло, давай, царевич, сабелькой, сабелькой, и когда выбегали мы к Волге, сверкающей пустыней, чистой гладью лежала она перед нами, еще не исписанной страницей нашего будущего, и так хотелось написать на ней какую-нибудь невероятную историю, какую-нибудь великую историю, чтобы о ней пели потом рапсоды, аэды, чтобы трагики сочиняли свои трагедии, свои трагические трилогии, чтобы и романисты не брезговали сим славным сюжетом, как Фаддей, например, Венедиктович всем вам известный, но никем из вас не читанный, чай, Булгарин, чтобы и какой-нибудь Макушинский (зануда) рассуждал, расхаживая перед вытерто-черною сценой, в маленьком театрике на маленькой площади, посреди огромной Москвы, какого Димитрия следует нам (кому?) показать современникам нашим (кто они?) в конце одной эпохи, в начале другой.
Никаких современников не было на катке. Детей не было на катке. Никого не было на катке. Были только горящие окна и я сам, ничего не понимавший в себе. Я ничего не понимал, поэтому злился на себя, на нее, на весь мир; однажды, помню, обнаружив возле катка обломанную, с обвисающей изолентою, клюшку, палку без лопасти, сшиб ею на глазах у бесчисленных окон ни в чем не повинную голову снежной, дебелой бабы, содрогнувшейся от моего царственного удара, — и посмотрев на несчастную морковку, ткнувшуюся в истоптанный снег, подумав о неизбывности нашей вины, о безмерности причиняемой нами боли, зашагал, помню, прочь, даже не к остановке, на автобус уже не надеясь, но прямо к белой-белой, как окружный снег, как наши души (покуда мы не оскверним их болью, причиненной людям и бабам), станции Беляево, отнюдь не Бердяеве; и на другой день все началось, на всякий другой день все начиналось сначала; и Мария Львовна, в театре, кивала мне, смеясь глазами, так заговорщицки, дружески, как если бы, в отличие от меня самого, она-то как раз прекрасно понимала, что происходит со мною, вообще все понимала (как оно и было, конечно) и даже пыталась меня поддержать, меня ободрить; и затем, похоже, переставала обо мне думать, сосредотачиваясь на очередных разглагольствованиях А. Макушинского, рассуждавшего, расхаживая то перед сценой, то по проходу между рядами, о том, что Гришка (будь он проклят) Отрепьев у Пушкина так мечтает поверить в то, что он — я, так стремится сделаться мною, что и вправду, пусть лишь на два коротеньких, как щелчок пальцев, мгновения, становится мною, Димитрием (с удовольствием пишет Димитрий).
Давно подмечено, с важным видом, расхаживая, рассказывал нам (зануда) Макушинский, — давно и не раз подмечено, что Пушкин то так, то эдак называет невероятного своего персонажа. То он у него Григорий, то Самозванец, то, например, Лжедмитрий. И только в двух важнейших местах, в двух решающих сценах Пушкин называет Димитрия — Димитрием (меня — мною, улыбаясь пишет Димитрий); во-первых, перечислял А. М. (не загибая палец (мизинец), как полагается делать порядочному русскому человеку, а сжимая все пальцы в толстый кулак, затем отгибая один (указательный), как делают только иностранцы, безродные космополиты, предатели родины, с наслаждением пишет Димитрий) — во-первых (или, точней, во-вторых), в том месте, на равнине близ Новгорода-Северского (о, мужики-севрюки! надежнейшая опора моя, в меланхолических скобках замечает Димитрий), где казаки, поляки и не-поляки Димитрия (мои поляки, мои не-поляки) побеждают годуновское войско, возглавляемое французским и немецким наемником (Маржеретом и Розеном; Маржерет удовлетворенно поддакивал; Розена у нас не было, был только Буссов) — причем очень хорошо видно, с явным удовольствием разглагольствовал А. М., расхаживая между рядами (с неменьшим удовольствием пишет Димитрий), как прекрасно Пушкин говорил и писал по-французски и как прост был его, напротив, немецкий, отчего реплики Розена приобретают некую классическую краткость и почти античную простоту (Oh, ja! Sie haben Recht. Ich glaube das), на каковом фоне Маржерет (оставивший, между прочим, прелюбопытнейшие воспоминания обо мне и моем времени, посмеиваясь пишет Димитрий; потому, небось, уже он записывал что-то в карманную книжечку, стараясь все понять, склонившись вперед) — Маржерет, на каковом фоне, выглядит прямо-таки болтуном, легкомысленным французиком, вертопрахом, щеголем, ловеласом, повесой, поэтом, почти поэтессой; — вот тут-то, когда Димитрий, появляясь верхом на коне (из чего, по-моему, следует, что Пушкин думал не о театре, а видел все вживе, все вправду, потому что как бы он въехал, как бы я въехал на сцену верхом? да ни за что, сударыня, не стал бы я въезжать на сцену верхом, хоть я и прекрасный наездник, уж поверьте мне на слово; на велосипеде, впрочем, в моем нынешнем воплощении, мне ездить сподручней, сподножней) — вот тут-то, когда произносит он свою патетическую реплику «Ударить отбой! мы победили. Довольно; щадите русскую кровь. Отбой!», тем самым показывая, что он настоящий русский царевич, не отщепенец, не предатель родины и не безродный космополит, — вот тут-то Пушкин и называет его Димитрием, разглагольствовал Макушинский (пишет Димитрий): не Григорием, не Гришкой, не Самозванцем, но именно Димитрием (мною), потому что он тут становится мною (Димитрием), дорастает до меня, до Димитрия.
И во-второй, точней, в первый раз, как давно уже подмечено исследователями, не-исследователями, просто читателями, Пушкин позволяет своему Димитрию быть Димитрием (мною), разглагольствовал Макушинский, в знаменитой сцене у фонтана, когда, ошалев от страсти к Марине Мнишек, гордой полячке, которой плевать, конечно, и на Димитрия, и на Григория, и на кого угодно, которой нужно только царство, царство и царство, — когда, окончательно ошалев, безрассудный самозванец открывает перед безжалостною Мариной (как вам мои эпитеты?) свое истинное лицо… но какое лицо у него истинное? вот в чем вопрос. Он сам-то верит, что он самозванец, что он Григорий Отрепьев, беглый Гришка, бывший чернец, и Пушкин верит в это, поверив Карамзину, к несчастию нашему и на мое горе (со вздохом пишет Димитрий). Но даже поверив Карамзину и годуновскоромановской клевете, передаваемой Карамзиным, Пушкин, разглагольствовал А. М., все же не мог спрятать истину и скрыть правду от себя, от читателя. Правда — она глаза колет, она прорывается. Истина — есть она. Форель разбивает лед. Я тоже, сударыня, владею искусством центона (не скрывая от себя своего удовольствия, пишет Димитрий). Это сцена разоблачительная — совсем не в том смысле, в каком автор задумал ее. Здесь не жалкий самозванец открывает перед Мариной свое истинное лицо, лицо Гришки Отрепьева, беглого чернеца. Здесь царственный лик Димитрия проступает сквозь все обличья и все подлоги (говорил Макушинский, пишет Димитрий).