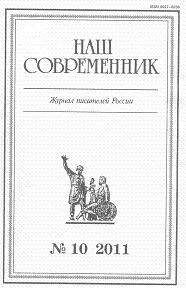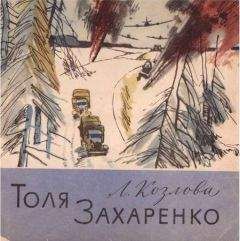Чалдоны - Горбунов Анатолий Константинович
—
Зарублю!..
Бежит с метлой в руках по улице, а догнать жену и не пытается. Деревенские глядят и посмеиваются:
—
Разошелся Гермогенушка, того и смотри пополам Устю метлой перерубит. — Кричат Даурихе: — Прытче, прытче беги, Устя, иначе настигнет Гермоген. Вон топор-то у него острый какой…
Дауриха с перепугу к Трифону в избу заскочит. Пьяный, пьяный Гермоген, а в чужую ограду заходить опасается. Случалось, Трифон запирал буяна на ночь в леднике. Крутится Гермоген около запретной зоны, мечет громы и молнии.
—
Выходи, лягушка лупоглазая! — Нарочно, чтобы досадить деду, ревнует: — Успели, снюхались! — Стучит чернем метлы по калитке. — Завтра в сельсовет пойду, там разберутся, там тебе, старый дурак, покажут, почем сотня гребешков на базаре. Семью разбивать вздумал…
Появится на крыльце Трифон, Гермоген бросит метлу — и наутек. Трифон затопает ногами, вроде вдогон кинулся, — Гермоген и того пуще припустит. Отбежит подальше, отдышится и грозит:
—
Погоди, арестант кривоголовый, пристр-р-руню!
Утром протрезвится, прощения на коленях просит. Председатель сельсовета не раз уже вызывал Дауркина и ругал:
—
До каких пор, Гермоген, будешь валять дурака, сына, жену пугать? До каких пор будешь народ смешить, Трифона Егоровича позорить? Отправлю я тебя лечиться. Сколько можно пить?
Гермоген давал клятву; прижимая ладонь к груди, уверял председателя:
—
Иван Афанасьевич, с этого дня ни грамма… — и отправлялся из сельсовета в сельпо опохмеляться.
Обзывает Гермоген деда «арестантом» вот почему. Вон за деревней озеро синеет. Раньше карасей в нем кишмя кишело. Подкармливало оно в голодные годины сельчан. Не у каждого в чулане висели речные сети, и на берегу лежал стружок, а корчага, плетенная из тальника, была доступна всем. Вечером поставишь корчагу, утром посмотришь — битком набита золотистой рыбой. Удумал раз сельповский счетовод Сопаткин карасей взрывчаткой наудить. Ну и рванул. Услышал Трифон взрыв — и к озеру. Сграбастал подлеца за шиворот, отхлестал по морде мертвым карасем и бока намял. Сопаткин — в суд. Дали Трифону за рукоприкладство пятнадцать суток, а пострадавшего оштрафовали. Затаил Сопаткин зло на деда.
Минувшей зимой Трифон чувствовал себя еще бодро. Удачно сходил на соболиный промысел. Февраль напролет возил сено на зверопромхозовский конный двор. А в марте подрядился на пару с Гермогеном пилить дрова для почты. Но весной, когда его старуху задрал медведь, шибко сдал… Дело было перед реколомом. Возвращалась Фекла с крестин из рабочего поселка. Шла заберегом. Медведь и скараулил старую в тальниках… День ждет Трифон старуху, два ждет, а ее нет. Забеспокоился. Позвонил в поселок, сообщили: в понедельник домой ушла. Почуял он недоброе. Собрался и отправился на поиски. На полдороге наткнулся на изжеванные Феклины ичижонки. Все понял. Сел на камень и заплакал.
—
Черт тебя дернул с этими крестинами, — ругал дед старуху. — Взять бы прут и отхлестать тебя, старую…
Мирно сияло небо. На середине реки дымилась унавоженная за зиму конская дорога. Лед местами от берегов отъело, на синих прогалинах радостно кричали утки. Разматывая клубки света и звона, прыгали с камня на камень, смеялись и негодовали родники.
Трифон плакал. Ему вспомнилась другая весна. В ту голодную весну, стыдясь своего увечья и кулацких насмешек, ушел он из деревни в тайгу. У быстрой речки, в кедровом распадке поставил просторное зимовье и занялся охотничьим промыслом. По людским слухам, по звериным тропкам отыскала Фекла в тайге своего Тришу, назвалась женой и увезла в свой дом. Неужели это было полвека назад? Неужели от синеглазой Феклы осталось только то, что лежит перед ним?
Трифон не слышал, как испуганно тинькнула синица на березе, как, возмущенно цокая, взлетала винтом на вершину сосны белка, как, вытянув шею, тревожно загоготали на воде утки, — глубокое, непоправимое горе оглушило его. Он встрепенулся лишь тогда, когда чей-то острый взгляд уколол его в спину. Трифон недовольно повернулся: бесшумно ступая по каменистой сугоре, к нему крался медведь. Старик спокойно встал, левой рукой снял шапку, смял ее в кулаке, а правой выдернул из ножен нож и шагнул навстречу. Встретившись с глазами Трифона, зверь остановился и поднялся на дыбы: поведение человека удивило его и озадачило. В маленьких дремучих глазках вспыхнуло любопытство. Когда до медведя осталось шага два-три, Трифон неожиданно бросил шапку чуть выше морды зверя — тот молниеносно поймал ее лапами… Но Трифон уже развалил брюхо — и откатился в сторону…
—
Жри, гад, — злорадно шептал он, вытирая нож о голенище ичига.
На майские праздники дед слег в постель. С первой водой уплавил его Гермоген на стружке в районную больницу. Отвалялся старик там около месяца и вышел оттуда неохотником. Фартовое зимовье свое и собак, кроме дряхлого Загри, отдал Гермогену.
—
Шабаш, расковались копыта.
И связался с Кольшей, стар да мал, оно и ладно.
Есть у Трифона сын Лаврентий. Живет в Краснодаре. Ходят слухи, что работает он якобы в торговле солидным начальником. В деревне как народ думает? Отправляет сын родителям каждый месяц деньги — значит, богатый, а если уж фотокарточку прислал, где сидит за рулем личного автомобиля, — обязательно начальник.
Рос Лаврентий послушным и старательным. Отец и мать души не чаяли в единственном чаде. Четверо старших буйные свои головушки под Москвой сложили. Был родителям последний сын великой радостью и надеждой.
—
Расти, Лаврушка, быстрее, — говорил, бывало, Трифон, — да в тайгу пойдем.
В детстве Лаврентий не любил ни рыбалки, ни лошадей, ни сенокосы. Любил он копить деньги. Сделал копилку-сундучок, оковал жестью, навесил замок. Ключ от замка носил на шнурке у себя на шее. Бабка Аксинья, верующая в Господа Бога, частенько допытывалась у парнишки:
—
Ты чё, Лавруша, на груди-то крестик носишь?
—
Черта с рогами, — отвечал тот и убегал.
Накопит Лаврентий полный сундучок медяков и серебрушек, обменяет в сельпо на рубли, идет в сберкассу, положит свои сбережения на книжку и снова копит. В летние каникулы занимался сбором ягод и грибов. Боже избавь, чтобы домой принес — все сдаст в сельпо.
—
Молодец! — хвалил парнишку Сопаткин. — Копи, малец, деньгу. В наше время без нее никуда.
—
В кого такой уродился? — плевался Трифон, глядя на сына. — Ремнем стегал, добрыми словами уговаривал — тому все неймется. На люди выйти стыдно.
Вырос Лаврентий умным, красивым, но с холодными глазами. Только окончил институт — сразу поступил на курсы продавцов, потерся год-два в Иркутске и умотал на Кубань.
Еще при жизни Феклы ездил отец к сыну в гости. Приехал в Краснодар в будний день. Сына и невестки дома не застал. Соседка по площадке растолмачила приезжему:
—
Перейдите, дедушка, через улицу, на углу увидите винный ларек. Там Лаврентий Трифонович продавцом робит.
Трифон ушам не поверил: «Лаврушка вином торгует?!» Подкрался к ларьку, как с подветренной стороны к сохатому, спрятался за яблоню и стал наблюдать. Точно, Лаврушка. В белом халате. Вылитый доктор! Мужикам микстуру гранеными стаканами едва успевает отпускать. От позора Трифон не знал, куда себя деть.
—
Что творится, что творится! — шептал он по дороге в аэропорт. — Сын охотника — вином торгует…
В этот же день он улетел домой…
—
Чтой скоро обернулся? — спросила тревожно Фекла.
—
Не климат мне там, — буркнул недовольно Трифон и сел писать сыну письмо. «Здравствуй, Лавруха и твоя супружница Ираида Ивановна! Пишут вам Бобряковы Трифон Егорыч и Фекла Терентьевна. Лавруха, докеда будешь мутить душу старикам? Писал нам, что работашь икспедитором, а сам? Мужиков спайвашь. Деньги больше нам не шли. Таких денег нам не надо. Кажный год к морю отдыхать ездишь, а родителев проведать некогда, значитца? Пусть у тебя об нас голова не болит…»