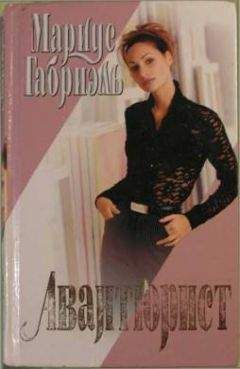Тиран в шелковых перчатках - Габриэль Мариус
— Прежде чем мы продолжим, я бы хотела кое-что прояснить: о том, чтобы вы работали бесплатно, не может быть и речи. Это была идея Жиру, не моя. Я буду рада заплатить.
Он развел руками:
— А я буду счастлив сделать вам подарок.
— Нив коем случае. Я пришла в ужас от того, в каком тоне с вами говорил Жиру.
Он печально нахмурил светлые брови:
— Моя дорогая, если вы хотите отыскать кого-то, кто не сотрудничал с немцами, приглашаю вас посетить кладбища Парижа. А все, кто до сих пор ходит на своих двоих и способен дышать, уж будьте уверены, с ними сотрудничали. Мой работодатель, Люсьен Лелон, воспротивился нацистам, когда те собирались перевести все модные дома и мастерские в Берлин. Он отказался. За это его могли расстрелять.
— Я этого не знала.
Расстрелять могли любого и за что угодно. Можете себе представить, в каком бешенстве пребывали немцы, видя парижан нарядными и улыбающимися? Они говорили: «Вы проиграли войну, отчего вы веселитесь?» А мы отвечали: «Вы выиграли войну, отчего вы грустите?» В этом и заключалось наше Сопротивление. Даже заставить жен нацистских офицеров выглядеть стильно — тоже было сопротивлением. Это доказывало превосходство французского вкуса над немецким.
— Тогда вы, без сомнения, герой Сопротивления, — заметила Купер, улыбаясь.
— Жиру — хулиган и задира, как и его люди.
— Они пикетируют дома моды?
— Фактически — да. Они обожают Сталина и ненавидят все прекрасное. Не волнуйтесь, мы вернемся к работе. К прежней жизни.
— И сколько примерно может стоить… э-э… платье? — осторожно спросила она.
Он закусил нижнюю губу:
— При обычных обстоятельствах… скажем, около пяти тысяч франков. Но давайте пока это оставим. — Он показал ей эскиз. — Что вы об этом думаете?
Она рассматривала набросок, пытаясь перевести в уме пять тысяч франков в доллары. Получалось ужасно много, даже учитывая девальвацию франка. Но платье! У нее перехватило дыхание. Казалось, он рисует без малейших усилий. Плавные, изящные линии точно сами собой складывались в прекрасный силуэт.
— Оно просто восхитительно!
— Вы так думаете? Осталось только найти достаточно шелка. Немцы почти весь конфисковали на парашюты. Тафта для нижней юбки у нас есть.
— Право, вовсе не обязательно шить платье из шелка.
— Вы должны, моя дорогая, позволить мне иметь свое собственное видение вас, — заявил он с торжественной серьезностью. — Я имею в виду женщину внутри вот этого. — Он выразительно пошевелил пальцами, указывая на ее темную блузку и брюки цвета хаки.
— Но ведь выйдет очень дорого.
Он, будто вовсе ее не слыша, склонился над своим рисунком.
— Я люблю пышные юбки, — бормотал он, работая. — Нет ничего романтичнее. Талия присборена. И видите эти плавные изгибы груди и плеч?
— Вижу, почему вам хотелось заставить меня воспользоваться вкладками в бюстгальтер.
— Бюст — самая красивая часть женского тела, — провозгласил он и с сожалением оглядел плоскую грудь Купер. — Если, конечно, не брать в расчет крайности в пределах того разнообразия, которым природа одаривает женщин.
— Месье Кристиан, я подозреваю у вас материнский комплекс, — серьезно сказала она.
Он моргнул и улыбнулся. Когда он улыбался, уголки его губ приподнимались, но глаза оставались печальными.
— Моя мать, конечно же, любила красиво одеваться. Но я больше помню ее духи. — Он закрыл глаза. — Куда бы она ни шла, за ней тянулся шлейф цветочного аромата.
— Наверное, она была красивая.
— Я бы хотел всех женщин одеть как цветы. Помните в Библии? Лилии долины: «И Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» [8].
— Весьма амбициозная цель.
Он поднял указательный палец:
— Я целюсь намного выше. Мое главное стремление — спасти женщин от них самих.
— Святые небеса! Так значит, мы в опасности?
— С одной стороны вас подстерегает Шанель с ее маленькими черными платьями из джерси, с другой — нелюди, разрабатывающие военную форму, так что — да. Не говоря уже о зазу [9] с их маниакальностью или диктатуре утилитарности с двумя карманами, пятью пуговицами и шестью швами. Ваше положение чрезвычайно опасно.
— Все ради практичности.
Он содрогнулся:
— Это слово! Никогда больше не произносите его в моем присутствии!
Купер рассмеялась:
— Не буду.
— Итак. Я начну с этой модели.
— Если вы в самом деле этого хотите.
Она-то думала о наряде попроще, в котором можно было бы покрасоваться в Нью-Йорке. Но если месье Диору угодно превратить ее в картинку из модного журнала, не стоит ему перечить, в противном случае это стало бы проявлением дурных манер. И хотя пять тысяч франков были астрономической суммой — ведь обычное платье можно купить в «Сирсе» за пять американских долларов, — шанс приобрести парижский наряд мог больше не представиться ей никогда в жизни.
— Таково мое решение, — подтвердил он. Несмотря на всю мягкость, в нем ощущался стальной стержень. — Раздобыть ткань будет непростой задачей. Мне потребуется по меньшей мере шесть метров шелка. Но, кажется, я знаю, где его найти.
Провожая ее, он сказал:
— Вы обворожительная женщина. Ваш муж — счастливец.
Купер улыбнулась в ответ.
— Я тоже так думаю. Сейчас вернусь домой и сразу же сообщу ему об этом.
Купер возвратилась в квартиру и обнаружила, что та насквозь пропахла духами «Шанель № 5». В этом сезоне они были на пике моды. Коко Шанель раздавала их американским солдатам галлонами, лишь бы изгладить из памяти свое сотрудничество с нацистами. Солдаты, в свою очередь, обменивали духи на секс — так и вышло, что этим ароматом сейчас благоухала каждая продажная женщина Парижа.
— У тебя были гости? — спросила Купер Амори.
Он стучал по клавишам печатной машинки, работая над своим романом.
— Нет. А что?
— Вся квартира пропахла «Шанелью».
— Ах да! Приходил какой-то низенький неопрятный коммивояжер, пытался продать мне несколько флаконов. Обрызгал духами все вокруг, чтобы продемонстрировать их подлинность.
— Не знаю, как всё, а тебя точно. — Она уклонилась от его объятий и прошла в спальню. Постель была небрежно заправлена — не так, как она ее оставила: подушки смяты, наволочки обсыпаны пудрой. Она стояла, уставившись на нее, и старалась не разреветься.
Амори подошел сзади.
— Ты же знаешь, это ничего не значит, — сказал он.
— Неужели?
— Ты — единственная, кто что-то для меня значит, Купер.
Она повернулась к нему лицом:
— Но, видимо, меня одной недостаточно.
— Не скажу, что наша сексуальная жизнь сейчас играет яркими красками. Ты, похоже, совсем не желаешь заниматься со мной любовью.
Она поморщилась: упрек попал по больному.
— И ты винишь в этом меня?
Он поскреб подбородок:
— Полагаю, в последнее время я вел себя не очень хорошо. Слишком много выпивки, слишком много секса, слишком много вечеринок, — слишком много всего, если честно. И я запоем работал над своим романом, а это подталкивает меня к беспорядочным связям.
— Ты всегда был беспорядочен в связях.
— Что ж, я такой и есть. И ты это знаешь.
Она расплакалась:
— Амори, но в нашей постели!
— Я мог бы поклясться тебе, что исправлюсь. Но с тем же успехом я мог бы поклясться, что изменю цвет глаз. Это бессмысленно. И ты же знаешь, они сами на меня вешаются. — Он говорил с небрежным превосходством мужчины, уверенного в своей красоте.
Горячие слезы скатились по ее щекам, она смахнула их:
— Не думаю, что смогу долго это терпеть.
— Да мы просто обнимались и целовались, вот и все. Дальше дело не зашло.
— Я тебе не верю, хотя это не имеет никакого значения.
Он пожал плечами и снова сел за печатную машинку. Купер принялась снимать постельное белье, изо всех сил стараясь не реветь. Это случилось не в первый раз, даже не во второй и не в третий. Она сама себя обманывала во всем, что касалось Амори и его измен, охотно верила его привычному вранью, уговаривала себя, что все это не имеет значения, что ее это нисколько не задевает, потому что любит он только ее одну. Но это имело значение. А сегодня он впервые переспал с другой женщиной в их супружеской постели. И это ужасно ранило.