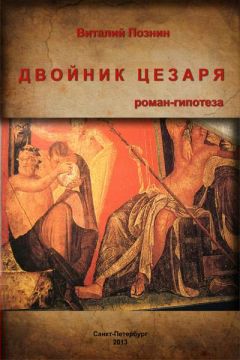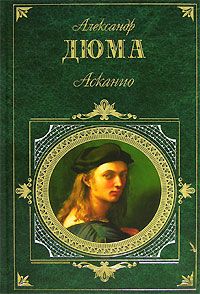Виталий Познин - Двойник Цезаря
– Я слышала, – сказала Семпрония, – сам Цицерон выразил готовность выступить в качестве твоего защитника в суде.
Она отщипнула ягоду от кисти винограда и, переменив позу, облокотилась о ручку кресла, отчего край ее туники приподнялся, давая возможность лицезреть красивый изгиб ноги, оплетенной кожаными завязками сандалии.
– Это-то меня как раз и настораживает, – сказал Катилина. – После истории с сестрой его жены Теренции, – а он у нее, как ты знаешь, под пятой ходит, – он должен был бы чураться меня.
– Кстати, дело прошлое, уж признайся откровенно: ты действительно согрешил тогда с прелестной весталочкой?
– Да нет же, клянусь тебе, нет. Я вообще не знаю, зачем Теренции нужен был весь этот скандал. Ведь окажись, что ее сестрица действительно нарушила обет девственности, несчастную замуровали бы живьем.
– Ну, во-первых, наши священные законы теперь не столь уж неукоснительно соблюдаются, а, во-вторых, Теренция пыталась представить дело так, будто ты силой взял весталку. Что, в общем-то, на тебя похоже…
– Да нет же. По-моему, вся эта возня была направлена не столько против меня, сколько против ее сестры… Не пойму до сих пор, что тогда двигало Теренцией. Может быть, она завидовала красоте своей сестры, ее положению?.. Хотя, по мне, почести и привилегии, которыми пользуются весталки, не могут идти ни в какое сравнение с радостями любви…
– Я думаю, Теренция просто была тогда влюблена в тебя .
Катилина ничего не ответил, лишь пожал неопределенно плечами.
Они вновь наполнили кубки, и Семпрония предложила выпить за любовь.
– Любовь – это единственное, ради чего стоит жить, – произнесла она с чувством. – Когда спрашивают у меня про секрет моей молодости, я отвечаю: просто надо жить любовью.
Прежде чем пригубить вино, женщина подошла к статуе Венеры и слегка плеснула из кубка на мраморную ногу богини.
– Она лишь одна – мое божество,
И, имя желанное с терпким мешая вином,
Впиваю его с наслажденьем ,
– продекламировала она напевно на греческом и трижды хлопнула в ладоши.
В дверях появились три девушки, две из них с флейтами и одна с тамбурином, и скрылись незаметно за мраморными колоннами, будто растворились в полумраке перистиля. Вскоре оттуда полилась, заструилась тихая нежная мелодия. Казалось, что чарующие звуки музыки рождены неумолчным шумом фонтанов и журчанием водяных струй.
Над перистилем на черном полотне неба засверкали две яркие звезды и показался золотистый рог молодого месяца.
– Божественный вечер, – сказал Катилина, расслабленный музыкой, выпитым вином и близостью красивой и желанной женщины. – Как ты умеешь делать все красивым и божественным… Знаешь, у меня сейчас такое впечатление, что мы с тобой сидим не в середине шумного, душного города, а находимся на далеком сказочном острове, где нет ни интриг, ни ненависти, ни обмана, ни прочих мерзостей, которыми Рим пронизан, как лесная почва корневищами. Помню, когда я был маленьким, я любил слушать рассказы матери про золотой век. О том времени, когда не было ни вражды, ни зависти, ни злобы. И я представлял себе при этом вот такой же тихий вечер, мягкую музыку и улыбающихся женщин…
– Наверное, золотой век в Риме закончился, когда Ромул убил Рэма, – сказала Семпрония.
– Возможно. Кстати, в народе ходит легенда, что Ромул вовсе не убивал Рэма. Они просто устроили комедию с исчезновением одного из близнецов, а потом делали вид, будто страной правит один царь. Сами же появлялись на публике поочередно, отчего, вероятно, и пошли рассказы о неутомимости Ромула.
– Что ж, могло и такое быть. Правители любят иметь двойников…
Катилина вдруг сник и помрачнел.
– Ты знаешь, последнее время надо мной висит злой рок, – сказал он, допив залпом второй бокал. – Будто мертвящий дух Карфагена преследует меня, как и всех, кто когда-то прикоснулся к этому месту.
– Я думаю, тут ни при чем ни рок, ни дух. Просто кто-то внимательно следит за тобой и наносит точные удары.
– Но кому это нужно?
– Не знаю. Мне кажется, тут не обошлось без нашего хитроумного Одиссея.
– Ты имеешь в виду Марка Туллия Цицерона? Но зачем ему это надо?
– Я слышала, он собирается выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах в консулы. А ты для него вполне реальный соперник.
– Да ну, этого не может быть! Мы служили с ним в преторианской когорте Помпея и были почти друзьями. Цицерону тогда было лет восемнадцать, мне – двадцать. И я был для него вроде старшего брата.
– Тебе давно уже пора понять, что у политика не может быть друзей. Учись у Юлия Цезаря. Ты, может быть, умней его, но ты слишком прям и откровенен. То и дело идешь напролом, не всегда умеешь скрывать свои чувства. Юлий же всегда со всеми ровен и обходителен. А главное – он умеет делать все так легко и весело, будто ему и дела нет до того, благосклонна к нему Фортуна или нет. И в результате его уважают даже его враги… Кстати, Юлий о тебе очень хорошо отзывался. А знаешь, что о тебе говорил Саллюстий?
– Да плевать мне на его мнение.
– Ну, может быть, ты и прав. Я тоже живу по правилу: не важно, что о тебе думают недруги, важно, что ценят в тебе друзья.
Семпрония сняла с шеи серебряную цепочку, на которой висел овальный аравийский оникс, и передала его Катилине. На камне была начертана надпись на греческом:
...Вы, люди, говорите, что хотите,
Меня это ничуть не беспокоит.
Я слышу только тех, кто дорог мне.
– Это мне досталось от моей бабки, – сказала Семпрония. – Она очень любила греческую поэзию и философию.
– Вероятно, ты пошла в нее.
– Да, поэзию я люблю. Философия же моя проста: любить и наслаждаться.
– Помнишь, Семпрония, ты мне рассказывала, что в северной части Понта живет племя, у которого есть такой обычай: человек там не дожидается приближения немощной старости, а, чувствуя, как уходят силы, идет на священную скалу и бросается с нее в море. И как бы растворяется в природе, подобно легкой дымке. Не причиняя никому ни хлопот, ни забот. Будто он ушел однажды в далекое, долгое странствие и не вернулся… Ты знаешь, я тоже хотел бы однажды вот так уйти…
– Все мы рано или поздно уйдем в Аид, – вздохнув, сказала Семпрония. – К счастью, никому не дано знать, когда Антропос поднимет свои ножницы, чтобы перерезать очередную нить судьбы, сплетенную парками…
Она хлопнула в ладоши, и музыка тотчас стихла, и девушки, теснясь, двинулись к двери. Семпрония потянулась томно, скрестив руки за головой, и ткань туники напряглась, натянулась, обозначая ее высокую упругую грудь. Катилина прикрыл глаза тыльной стороной ладони, изображая шутливо, что он, ослеплен, сражен наповал красотой хозяйки дома.
– Ты – как Катон-старший, – засмеялась бархатисто Семпрония. – Рассказывают, что этот старый ханжа зашел однажды в цирк во время флоралий. Когда его появление было обнаружено, публика моментально сникла и замолкла. Так робеют и затихают расшалившиеся дети, когда неожиданно возвращаются родители. Даже шлюшки на арене, которые к этому времени уже успели скинуть с себя все, что можно, тоже засмущались и принялись напяливать на себя какие-то одежонки… Гнетущая пауза продолжалась до тех пор, пока, наконец, великий цензор не выдержал и вскочил вон, выкрикивая на ходу проклятия… После чего на арене началось такое, чего Рим давно не видывал…
Катилина засмеялся и, поднявшись с кресла, приблизился к Семпронии. Поднял ее с кресла и стал жадно целовать ее губы, лоб, волосы.
– Как ты хороша! – бормотал он. – Ах, как ты хороша!
– Не торопись, – ответила она негромко. – Пусть все уснут покрепче…
Когда Катилина вышел на улицу, небо на востоке уже розовело. Вдалеке слышался немолчный стук колес, – это подтягивались, торопясь попасть в Рим до запретного времени, повозки с продуктами, ремесленными товарами, предметами роскоши, – со всем, что в течение дня будет сметено с прилавков, разнесено по жилищам, съедено и выпито. Чтобы не столкнуться невзначай с мужем Семпронии, который уже мог возвращаться с ночного пира, Луций спустился к Тибру. Он ощутил резкую свежесть влаги и одновременно затхлый запах нечистот, – неподалеку находилось жерло большой клоаки, этой огромной прямой кишки города, извергавшей в реку отходы жизнедеятельности всего Рима – и, побыстрее миновав этот участок, свернул в тихий безлюдный проулок и зашагал к дому.
Глава IV. Ede, bibe, lude [7]
По итогам выборов, состоявшихся без участия Катилины, консулами на следующий, 689 год (65 г. до н. э.) стали Публий Автроний Пет и Публий Корнелий Сулла.
Однако спустя неделю римляне узнали, – те, что побогаче, из принесенных рабами восковых табличек, те, что победнее, – из ежедневных новостей, вывешиваемых на Форуме у здания Национального архива, – о том, что состоявшиеся выборы признаны сенатом недействительными. По той причине, что оба претендента занимались подкупом избирателей.