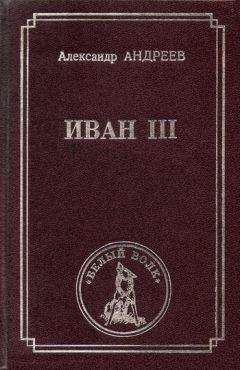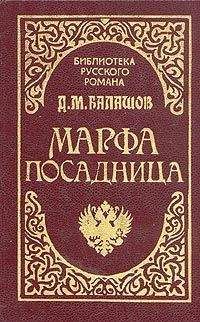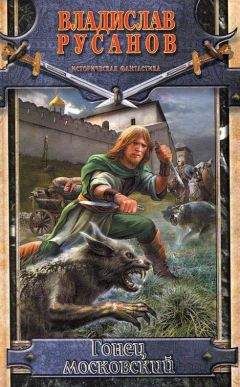Юрий Нагибин - Злая квинта
А ведь ты оживаешь, мой друг!.. Давно ли встать не мог, а вон уже о женщинах думаешь. Давай теперь умно и последовательно двигаться к полному выздоровлению. Перво-наперво надо попить воды, чтобы отмякло ссохшееся нутро, второе — поесть теплой, лучше жидкой пищи. А там можно и о работе подумать. Набросать план статьи, поправить перевод «Ромео и Юлии» — на это тебя хватит.
Он стал обыскивать комнату в надежде найти завалящий кусок сахара или сухарь, ах, с каким бы наслаждением вонзил он зубы в заплесневелый плюшкинский куличный сухарь, пусть даже не отскобленный Маврой от зеленцы. Но ничего не попадалось под руку, даже пива на глоток не осталось в многочисленных пустых бутылках. Имелась, правда, в доме одна таинственная специя, но он и подумать о ней не мог без желудочных колик. Стало быть, придется выползти из комнаты, кинуться в ноги хозяйке или старой служанке ее, усатой Марковне, или тащиться за ворота, чтобы в большом петербургском мире найти кусок хлеба и глоток воды. И тут в дверь постучали.
Кто бы это мог быть? Хозяйка? Но она никогда не стучалась, а сразу перла в дверь, изрыгая жалобы и хулу на вечно должающего квартиранта. Марковна? Она тоже лезет без стука, а если дверь заперта, как сейчас, долбит кулаком. А это стук осторожный, вежливый, косточкой указательного пальца. Неужели Страхов вспомнил о нем? Милый, милый Николай Николаевич! Григорьев должен ему вот уже полгода, хотя обещался отдать перед масленой. Но кто, скажите на милость, будет отдавать долг перед масленой, когда деньги всего нужнее? Это любимейший праздник каждого русского человека, и равно невозможно вернуть долг перед масленой и после масленой. Но как только он пристроит перевод «Ромео и Юлии», то перво-наперво расплатится с добрейшим Николаем Николаевичем. Вообще у него есть принцип: никогда не занимать у тех, кому должен. Во-первых, это безнравственно, во-вторых, безнадежно. Да ведь сейчас речь идет вовсе не о займе — о тарелочке супа, куске хлеба и бутылке пива в ближайшей кухмистерской. В такой малости ни один православный человек другому не откажет. Но почему-то Григорьев медлил открывать. Он хотел предусмотреть все возможности. Бог послал ему спасителя: кто бы ни оказался за дверью, его накормят и напоят. Ну, а если там не Страхов, а человек, которому он ни копейки не должен, или курьер из редакции со срочной просьбой?..
За дверью послышались приглушенные голоса. Посетителей было двое. Братья Достоевские, вспыхнуло радостно, и тут же по сердцу полоснуло стыдом. Как мог он забыть в скотском своем эгоизме, что добрейшего Михаила Михайловича уже нет на свете? Скорее всего, это Страхов и Федор Михайлович. Не похоже на Достоевского, чтобы в святые рабочие часы навещал спившихся друзей, но милый Страхов мог подвигнуть его на подвиг милосердия. Господи, сделай так, чтобы это был Федор… Михайлович Достоевский, издатель «Эпохи», подсказал он творцу. Надо расплатиться с хозяйкой и лавочником, закрывшим кредит. А Федор получит для журнала перевод «Ромео и Юлии» и новые статьи о методе органической критики. В конце концов, он отдает все свои долги. Даже когда заимодавец перестает ждать, вычеркивает долг из памяти. Как удивился в свое время Катков, когда в безукоризненном по форме письме Григорьев напомнил ему о своем долге — не личном, а журнальном — трехлетней давности и предложил в погашение давно списанной суммы перевод «Ромео и Юлии», над которым он начинал тогда работать. Григорьев очень любил писать подобные письма и никогда не забывал напомнить, что его корреспондент имеет дело с человеком чести, причем сообщал своему посланию оттенок легкой укоризны, подчеркивающей его душевное превосходство над кредитором.
Но, конечно, встреча с Достоевским и Страховым радовала его не только из меркантильных соображений. Он поделится с ними своими новыми мыслями и решениями, докажет, что рано еще списывать его со счетов. В счастливом нетерпении он вскочил с кровати, пересек комнату, повернул ключ в ржавом замке и ударом кулака распахнул створку двери. То не были Достоевский и Страхов, хотя тоже приятные люди: помощник смотрителя долговой тюрьмы Иван Иванович, маленький, ссохшийся, но очень живой и душевный старичок, и громадный полицейский, которого Григорьев встречал на улице, но не знал по имени.
— Аполлон Александрович! — воскликнул помощник смотрителя, простирая к Григорьеву сухонькие, усыпанные гречкой руки.
— Иван Иванович! Какими судьбами? Милости прошу! — радовался Григорьев, пропуская гостей в комнату.
— Имею честь представить вам Афанасия Капитоныча Козодоева. Видом звероподобен, сердцем кроток, как голубь.
— Очень, очень рад! — Григорьев не без удовольствия вложил небольшую женственную руку в огромную теплую длань полицейского. Он любил таких вот больших, кряжистых и добрых от своей силы людей. Афанасий Капитоныч с трогательной осторожностью чуть помял ему пальцы. — Прошу, господа! Извините, что не прибрано, не ждал!.. Располагайтесь. Пожалуйте сюда, в креслице, Иван Иваныч. А вы, дражайший Афанасий Капитоныч, лучше на кровать, стульца весьма непрочны по причине крайней ветхости.
Григорьев уже пережил разочарование и сейчас был искренне рад нежданным гостям. Он не раз сиживал в Долговом и успел оценить редкую доброту и деликатность Ивана Иваныча, к тому же тонкого ценителя и знатока отечественной словесности. Попечением Ивана Иваныча Григорьев всегда был устроен в «Тарасихе» наилучшим образом: чистая сухая камера, тихие, благовоспитанные соседи; для работы — кабинетик Ивана Иваныча в тюремной канцелярии; когда его навещали друзья — Страхов, Михаил Достоевский, Милюков, — Иван Иваныч принимал их по-семейному — этот бедняк собрал под своим кровом всех неимущих родственников — на казенной квартире при Долговом, угощал чаем, кофеем, и хороший разговор затягивался нередко за полночь. Он даже в город Григорьева отпускал, что было уж и вовсе против правил. Но кроме доброты у Ивана Иваныча был хороший раскидистый русский ум, который не сразу угадывался за самоуничижительной повадкой. Но коли собеседник брал на себя труд проникнуть за шутейную оболочку, то открывал геттингенскую способность к воспарению на привязке русской проницательности.
Иван Иваныч был человеком с образованием и некогда занимал довольно видный пост в министерстве юстиции, но что-то у него случилось, какой-то малый служебный проступок, ловко преувеличенный завистливым наветом, и многообещающий чиновник скатился по ступеням служебной лестницы почти в самый низ. Григорьев был убежден, что никакой вины на Иване Иваныче вообще нет, а погубила его злосчастная русская доля. Громадная семья, почти нищенская бедность, приверженность к Лиэю и светлый бескорыстный разум придавали образу Ивана Иваныча классическую завершенность.
— Ну, что там у вас? Какие новости? — интересовался Григорьев, мучаясь, что ему нечем попотчевать хороших людей.
— Да что у нас может быть, почтенный Аполлон Александрович? Все по-прежнему тихо, мирно, день-ночь — сутки прочь.
— А из «старичков» вернулся кто?
— Как не вернуться? Почитай, все на месте.
— И грузинская царица? — улыбнулся Григорьев.
— Помните, однако! — обрадовался Иван Иваныч. — Как же-с! Вновь украшает нашу скромную обитель. И еще больше драгоценного металла на себя понавешала. Обвилась до самых пят златой цепью, как пушкинский дуб на лукоморье.
— А купец… Разуваев?
— И его увидите, в том же долгополом сюртуке и высоких сапогах со скрипом.
— А зачем мне его видеть? — нахмурился Григорьев. — Какая нужда?
— Как же-с? — смутился Иван Иваныч. — Всех своих старых дружков встретите, кроме Селиванова, франта усатого. Плохая ему карта вышла, в настоящую тюрьму угодил.
— Так вы за мной пришли? — упавшим голосом сказал Григорьев, только сейчас догадавшись о причине неожиданного визита помощника смотрителя и полицейского.
Он не раз сиживал в Долговом и всегда считал месяцы, проведенные там, самыми спокойными, комфортными и урожайными на работу в своей жизни. Нигде ему так не писалось, как в тихой «Тарасихе» у Измайловского моста, в уютной, садовой, благоуханной части старого Петербурга; он хорошо и регулярно питался за счет заимодавца, со вкусом играл на гитаре перед благодарными слушателями, наблюдал немало оригинальнейших личностей, его любили, чтили и узники и начальство, частенько навещали друзья. Но так уж устроен человек, что всякая, даже самая сладкая неволя тяжка его сердцу. И хотя в нынешних безвыходных обстоятельствах Долговое отделение было единственным спасением, острая тоска защемила сердце. Ведь он принял важные решения, собирался начать разумную, строгую жизнь, завершить главный труд своей жизни, и, хотя «Тарасиха» ничему этому не мешала, скорее, наоборот, он не был готов, совсем, до растерянности, чуть не до слез не был готов к такой перемене жизненных обстоятельств.