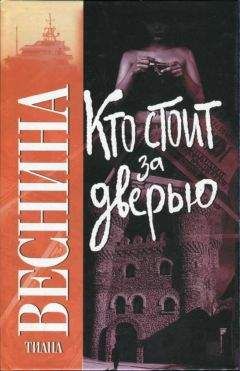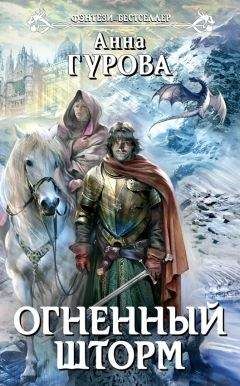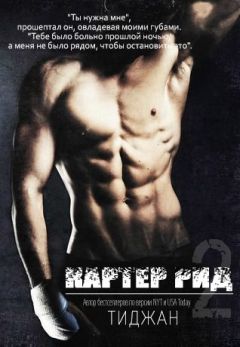Юрий Плашевский - Огненный стрежень
Лицо ее было бледно, под бровями лежали тени. Петр Андреевич вздохнул. Отчего все сие так? А она ведь Лауре не уступит, Настасья. Захотела б, обожгла б, наверно, пуще той. Да та весела, вольна. Итальяночка. А здесь зубы стиснув, русская крепостная… По барской, князя Романа, воле…
— Не слышала ты, Настасья, здесь, в доме, от князя Романа или от кого еще слов каких про царя Петра?.. Недобрых слов?..
Вскинула глаза, удивилась чуть.
— Нам слова слушать, замечать, — сказала тихо, внятно, — досуга нет. Мы барские.
Верно сказала. Другого ничего и не ожидал Петр Андреевич. Он все гладил Настасьину руку, а та уже расстегивала на груди платье. Ну, что ж…
— Гаси, — приказал. — Гаси свечу.
Она встала, подошла к столу, дунула. Последний язык пламени погас. Наступила тьма. Обозначились окна. Петр Андреевич сидел в креслах, слушал, как спадали с Настасьи одежды. Желание пробудилось в нем, но все ж оставался в груди странный холод. Он подумал, что совсем зря, по привычке только, спросил ее про князя Романа, не говорил ли тот чего-де о царе. Петр Андреевич обо всем уж сам теперь догадался и князя Романа видел насквозь. Он знал, чего тот от него хочет и о чем с ним рано ль, поздно ль говорить будет.
Он услышал, как Настасья, сбросив с себя все, улеглась в постель. Встал, начал раздеваться. Потом подошел, откинул простыню, наклонился и впился губами в обнаженную, прохладную грудь. Настасья не охнула, не вздохнула даже.
IV
Мужики покоряться привыкли только до ближнего бунта, что затеют. Уж это известно.
Петр Андреевич, проснувшись, возлежал на постели, смотрел в окно. Там ширилось, расцветало утро. Далеко нежно играла пастушья дудка.
Он был один. Настасья ушла час назад. И после ночи сей осталась горечь. Он лежал и думал. Он странно и сильно ощущал в себе высоту и надменность. Казалось, все просто, но по-прежнему сознание всего сделанного руками царя Петра на Руси, — было как твердый камень, на который полагалась вся опора.
Кто был к нему близок, знали его руку. Но без них и царю бы Петру не вытянуть. Умрет царь Петр, умрут они — пойдут тогда люди судить их. Скопом. И копать, и рыть, и доискиваться, поди, станут: а что ближние, те самые, которых он золотом осыпал и властью облек, любили ль царя Петра иль нет? Петр Андреевич покачал головой: наверно, нет. Боялись? Пожалуй. А что еще? А чувствовали еще силу его и что он их всех выше. Отчего же? Оттого что понимал — служит России. А они только ему. Поздно пришло предчувствие: не только, кажется, ему. А что сделано — сделано. Или только упрямство сие?
В душе его как бы росла злоба. На что? На то, может, что посреди многолюдства порой будто подымался резкий холодный ветер одиночества. Он встал, накинул халат.
Стукнув тихо в дверь, вошел князь Роман в шелковом персидском халате, большой, белолицый, умно и ласково улыбающийся.
— Как почивали, батюшка Петр Андреевич? — заботливо обратился к гостю. — Хорошо ли?
— Отменно, отец мой, — ответил Петр Андреевич, с новым каким-то интересом окидывая взглядом князя Романа и отмечая про себя с едким злорадством: «А не глуп, ох, не глуп и то сам знает, и в том уверен. И в том ему будет погибель. Ну да поглядим…»
— Из Петербурга отъезжая, государя в добром здравии оставить изволили? — еще заботливее и несколько умеряя ясную улыбку, осведомился князь Роман.
«Ага, торопишься», — быстро отметил про себя Петр Андреевич.
— Государь здоров, бодр, — ответил он кратко и замолчал, ожидая. И дождался.
— Сердцеведцы иные, — широко все по-прежнему улыбаясь, проговорил князь Роман, — мудры, как змии, бывали, а подле себя многого, случалось, не замечали, что другим простым открывалось. И в писании сказано…
— Сказано, князь Роман, сказано, — вздохнул Петр Андреевич и принял вид серьезный. — А про сына моего Ивана тебе что открылось?
— Да боже ж мой! — взмахнул князь Роман руками. — Да и чему открываться…
— Не так, — остановил его Петр Андреевич. — Негоже нам так меж собой, князь Роман. Особенно если в рассуждение взять то, о чем беседовать предстоит. Или не так?
Петр Андреевич взглянул на него тяжело, потянул из кармана табакерку, принялся по ней перстами еле слышно постукивать.
Князь Роман, осекшись, забыл улыбаться и краткое время глядел на него молча, видно что-то соображая. Потом тряхнул головой.
— Верно, Петр Андреевич, — сказал, заскорбел. — А сын твой Иван с месяц тому назад мне на Царицыном лугу на гулянии встретился. Весел был, но в меру, хоть и с Бахусовым участием. И провожать меня увязался. И на том провожании многие мне слова говорил.
— Какие?
Пальцы Толстого вели по-прежнему свой танец по лаковой черной крышке табакерки. Князь Роман задышал тяжело, сказал запинаясь:
— Ты ж не расспросные мои речи слушаешь, и не в застенке мы еще, Петр Андреевич… Просто по любви и приязни уведомить тебя хочу, что воровские речи сын твой Иван говорил, и государя осуждал, и смерть ему предрекал.
Пальцы не дрогнули, и бег их по лаку был все так же равномерен. Князь Роман взглянул на табакерку, усмехнулся:
— И про те слова твоего сына Ивана знаю пока один я.
Он поглядел Толстому в лицо, чтоб тот в сказанном убедился, и тот глаза не отвел и все понял.
— А в остальном все божья воля, конечно, — вздохнул князь Роман, — но и я, грешник, мыслю: земным путем царю Петру Алексеевичу осталось шествовать недолго.
Тут Петр Андреевич счел за благо, опять не отвечая, обратить на князя Романа слегка как бы оцепенелый и даже отсутствующий взгляд и помолчать, как умели молчать одни только, наверно, петровские вельможи, хорошо прошедшие царскую науку. В молчании было некоторое приглашение к дальнейшему.
— Да, — прямо в глаза Петру Андреевичу глядя и оцепенелостью его, кажется, нисколько не обманываясь, продолжил князь Роман, — да, воля. Божья. Если кто, например, захочет укоротить земной путь, царю Петру отмеренный…
— А ты часом, — осипнув вдруг в ту же секунду, сказал Петр Андреевич запинаясь, — а ты, князь Роман, не забыл, с кем говоришь? А то я ведь, — усмехнулся, — я ведь не только коммерц-коллегии президент, а и тайной канцелярии вместе с Ушаковым начальник.
Лицо князя Романа исказилось, но он тут же быстро привел его в порядок.
— А и с кем другим, — по-прежнему ласково и вполне, кажется, собой владея, отвечал, — как не с тайной канцелярии главным начальником и говорить.
— Ну? — проявил Петр Андреевич интерес.
— Вот то-то, что «ну». Скажи лучше, Петр Андреевич, что будешь делать, как умрет царь Петр? А сроки его отхождения в места, где нет ни печали ни воздыхания, — самосильно, с чужой ли помощью, — уже невелики.
— Что ж, — ответствовал опять без определенности Толстой.
— И ты, Петр Андреевич, столь долго царя Петра цепным псом был, что самое теперь тебе время на него кинуться, другим помочь…
— Чтоб к ним на службу перейти?
— На службу иль просто на сторону, чего так…
— Но живот свой спасая?
— Да. И не только свой…
— А тебе, князь, часом тот человек с ножом, которого в Летнем саду, у государева дома, изловили, неведом?
— И чтоб ты того, Петр Андреевич, часом не забыл, что было.
— А что?
— Будто не знаешь. А как ты царевича Алексея Петровича из земель иностранных, куда он бежал, выманил. И его и многих других тем погубил. И прилепили тебе за то имя Июда… Ась?
Петр Андреевич прошелся, понюхал табак, рассыпая крошки на пол, чихнул.
— Да вот, — тихо засмеялся, — слава человеческая.
— О божьей думай, — внушительно сказал князь Роман. Сузил глаза. — Ты, Петр Андреевич, не тяни. Сегодня ж нам надо с тобой обо всем…
— Торопишься?
Князь Роман молча кивнул. Почувствовалось, что уверенность в нем возросла. Он, видно, решил, что Толстой согласен.
— А что? — Петр Андреевич подошел к окну, побарабанил по стеклу пальцами, рассеянно глядя в сад. Обернулся.
— Что? — голос князя Романа пресекся, будто ему сдавило горло. Лицо опять исказилось. — Твой сотоварищ Федька Ушаков, из тайной канцелярии пес, на след напал. Неделя, месяц, всех переловит. Оттого надо поспешить. Всем. И мне тоже. И тебе, Петр Андреевич, чтоб до меня не добрался. Потому что через меня он и до Ивана Петровича, сына твоего, дотянется…
— Ужо, — Петр Андреевич повернулся к окну, будто не расслышав последнее. У него вырвался не то короткий сдавленный смешок, не то всхлип. — Мужика-то опять только с ножом подсылать к Петру Алексеевичу не вздумайте. Дурачье…
— Не бойсь, — князь Роман осклабился, совсем осмелев. — Я разве не вижу. Без меня ироды начудили. Я понимаю: поумнее придумаешь. Без тебя ничего. Потому к тебе…
— Поди, князь Роман, негоже нам много шептаться. Вечером потолкуем. А ты будь как был…
— Господи, да я ж…
Повернувшись, вышел.
V
Если Ушаков на след напал, то беспременно всех умышляющих переймет и до князя Романа тоже доберется.