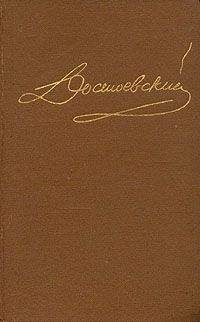Михаил Филиппов - Великий раскол
Вот сидят они однажды вдвоем, и бабушка болтает без умолку о разных разностях, чтобы рассеять Пашу; и чего-чего нет у нее: и о самозванце, и о колдунах, и о ведьмах, и об оборотнях, и невольно увлекается Паша этими сказками и начинает вслушиваться в болтовню бабушки.
— И Гришка, — бормочет старушка, — поженился на проклятой на литвинке, на еретнице, безбожнице; сыграна была свадьба в Николин день в пятницу; когда Гришка пошел в баню с женой — бояре пошли к заутрени. После бани Гришка вышел на красное крыльцо и закричал: «Гой еси ключники мои, приспешники! Приспевайте кушанье разное, и постное и скоромное; завтра будет ко мне гость дорогой, Юрья пан с паньею!». А в те поры стрельцы догадалися, за то-то слово спохватилися. Стрельцы бросились к царице-матери, та отреклася от лже-Димитрия, и рать христианская взбунтовалася. Маринка-безбожница сорокою обернулася, из палат вон она вылетела, а Гришка-засстрига в те поры догадлив был, с чердаков да на копья острые к тем стрельцам — удалым молодцам, и тут ему такова смерть и случилася…
Но, видя, что это не берет и кручину девичью не разгоняет, старушка продолжала шамкать:
— И пса слушают, и кошки мявкают, аль гусь гогочет, аль утица крякнет, и петел поет, и курица поет — худо будет; конь ржет, вол ревет, и мышь нарты грызет, и хорь нарты портит, и тараканов много — богату быти и сверьщков такожде; кости болят и подколенки скорбят — путь будет; и длани свербят — пенязи имать; очи свербят — плаката будешь…
— У меня день-деньской, бабушка, очи свербят. Ах! не дождусь, — невольно проговорилась Паша.
— Дождешься, дождешься, кот Васька моется, да, слышишь, и конь ржет… Чуют гостей…
В это время петух пропел; старушка набожно перекрестилась и стала шептать:
— Когда же двинут ангелы Господни одежду и венец от престола Господня, тогда пробуждается петел, поднимает глас свой и плещет крылами своими…
— Бабушка, бабушка, поворожи… погадай… уж больно соскучилась…
Старуха ушла в сени, принесли оттуда ведро с водой, прошептала над ним какую-то молитву и, осветив воду лучиной, сказала:
— Гляди, Паша, теперь в воду: что увидишь, то и сбудется.
— Вижу его на коне, он скачет! — воскликнула Паша.
— Видишь, суженого и конем не объедешь, — торжествовала старушка.
В это время послышался топот копыт, у Паши замерло сердце, она бросилась из избы на двор: это приехал из Нижнего Никита Минич.
Увидя на нем одежду послушника, Паша остановилась и побледнела.
Привязав лошадь к крыльцу, Никита Минич подошел к ней, обнял ее и поцеловал несколько раз.
— Видишь, ни к отцу, ни к матери, а к тебе заехал я… Отец Василий дома?
— Сейчас будет, он на крестинах. Зайди, Ника… что я!.. Никита Минич…
— Называй меня Никой, так называла меня и покойная мать… Но как ты похудела?..
— Тосковала по тебе, противный, а ты, чай, нагляделся на красавиц и в церкви, и на ярманке?
— Молился Богу, — серьезно возразил Никита Минич, — да о тебе, грешный, думал… Думал, думал и вот приехал… Где батюшка, пущай решает судьбу нашу…
В это время показался и батюшка, ему кто-то сообщил о приезде гостя.
Отец Василий, увидя Никиту Минича, бросился к нему на шею и не знал на радостях, что говорить.
Он ввел его в избу, посадил в углу под образа, любовался им и только приговаривал:
— Ну, спасибо… не ожидал… потешил старика… Паша… тетушка… что в печи, на стол мечи… чай, голоден… на коне приехал… где взял…
Между тем Паша и бабушка засуетились, накрыли на стол и действительно подали все, что у них имелось.
Когда старик немного успокоился, Никита Минич стал рассказывать ему о том, какие порядки он ввел в Макарьевском монастыре и как митрополит Ефрем взыскал его; в конце же своего рассказа он присовокупил:
— Теперь, батюшка, от тебя зависит: аль принять мне лик ангельский, аль быть иереем…
— Как от меня? — спросил отец Василий удивленно.
— Так, коли отдашь мне Пашу, тогда я иерей; коли нет — я чернец.
— А я тут при чем? — бормотал несвязно старик. — Погляди на голубицу, измаялась… Ты уж с нею поговори… а мне что?.. Ведь тебе жить с нею, а я на старости полюбуюсь вами… будьте счастливы, дети…
Старик заплакал. Паша не выдержала и бросилась к нему на шею; Никита Минич стала на колени, а догадливая бабушка сняла со стены благословенный образ матери Паши и подала его батюшке. Паша стала тоже на колени.
Отец Василий благословил детей, поцеловался с ними и велел им тоже поцеловаться.
Радостная семья после уселась за стол, и за чаркой пенного пошли расспросы и рассказы.
Никита Минич объявил, что митрополит долго не может оставаться в Нижнем и что желает рукоположить его у Макарья во дьяконы, а на другой день, после обедни, в старой церкви рукоположить в иереи. Нужно поэтому торопиться и назавтра обвенчаться, а на послезавтра ехать в Нижний одному; потом он приедет за женой.
Как ни была грустна такая торопливость, однако ж семейство отца Василия согласилось на это, и долго за полночь они толковали о том, как что устроить.
На другой день рано утром Никита Минич взял с собою Пашу и они отправились к отцу своему, чтобы попросить благословения.
Отец обрадовался его приезду и, когда узнал о милости к нему митрополита, пришел в восторг и тут же благословил его и Пашу. Сестренка Никиты Минича была тоже довольна его счастьем; одна только мачеха надулась, и когда они ушли, свирепо сказала, как-то злобно искривив рот: «Ведь дуракам всегда счастье».
Минин озлился в первый раз в жизни и возразил:
— Уж неча сказать — ты умница; погляди-ка на свое-то рыло, коли б умнее была, то не была бы Минишна… голь одна непрокатная… А он, гляди, — точно боярский сын: и зипунишка и порты суконные; да на лошади охотницкой, да на седле стремянном, да уздечка наборная… И помянешь ты мое слово, будет он не иереем, а архиереем, и подойдешь ты тогда сама к нему к ручке… значит, под благословение… вот-те тогда ты будешь дура.
— Уж и дура, — захныкала и заголосила баба, — из-за щенка.
— Ну, уж завела, — и с этими словами Минин махнул рукой и вышел из избы.
VI
Царская невеста
Никита Минич после рукоположения его в иереи назначен был священником в Нижний Новгород, в небольшой приход[2], но слава о нем распространилась быстро между жителями города и между гостями, так что в воскресенье и в праздничные дни церковь наполнялась многочисленными богомольными, в особенности послушать его нововведения, т. е. единогласие в пении, согласие в службе и, наконец, проповедь его, которая была тоже новшеством.
С завистью глядели на него его собраты, остальные священники, и в особенности на последнее.
— Это латынство, — говорили одни.
— Это еретичество, — стали распространять другие.
Народ же приходил в умиление и от согласной службы, и от стройного пения на клиросе, и от превосходной его проповеди.
Говорил Никита Минич кратко, сжато и вразумительно; проповеди его касались земной жизни Христа, апостолов и угодников, и неоднократно он вызывал слезы умиления из глаз слушателей.
После одной из таких проповедей к нему после службы подошла бывшая царская невеста Марья Ивановна Хлопова. Она просила его и жену его Прасковью Васильевну хлеба-соли откушать.
Отец Никита поблагодарил ее и вдвоем с женою проводил ее домой.
За трапезой разговорились они о том о сем, и Хлопова рассказала свою странную судьбу.
— Взята я была годков девять тому назад, — говорила она, — в царский терем как невеста царя Михаила Федоровича и назвали меня Марьей-Настасьей и стали чествовать царицей и ожидали только возвращения из пленения польского святейшего митрополита Филарета, чтобы обвенчать меня с царем. И жених и царица-матушка любили меня… Но приключилась со мною беда: есть перестала, и так смутно сделалось. Михаил Михайлович Салтыков, племянник царицы, дал мне лекарство, а сам отправился к царю и объявил, что я испорчена, неизлечима… Посадили меня и всех моих родных в кибитки и отвезли в Тобольск; с возвращением из пленения святейшего Филарета меня перевезли с родственниками Желябужскими в Верхотурье, а год спустя — сюда, в Нижний… Живу я здесь и горе мыкаю, а царь доселе еще не женат.
— Царица небесная, да не дали ли тебе, боярышня, зелья? — всплеснула руками жена отца Никиты.
— Был у тебя Нефед, сын Минина, — вставил отец Никита, — ты бы ему порассказала. Он человек ближний и у царя, и у святейшего патриарха Филарета. Святейший человек, правдивый, он бы и сыск учинил.
— Салтыковы — люди знатные, сильные, им и вера… Говорят люди: с богатым не тягайся, с сильным не борись, — вздохнула Хлопова. — Рады мы, что из Сибири нас возвратили. Да и как доказать поклеп Салтыкова, и коли не докажу, выдадут меня ему головой, тогда и кнут, и снова Сибирь.