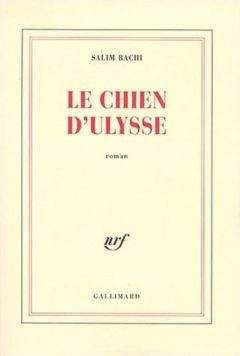Акакий Церетели - Баши-Ачук
Великий среди великих Тимур Ленг только здесь и почувствовал свою хромоту, споткнувшись об этот «краеугольный камень мира». А что, если «иранскому льву» тоже придется поджать хвост? Опасен народ, дух которого витает высоко, а закаленное тело подобно кремню. Сначала нужно расслабить его тело и растлить его дух, и только после этого думать о том, как сломить его сопротивление. Да, да, там, где в иных случаях не пригоден топор, прекрасно справляется пила, там, где бессильна львиная лапа, выручит лисий хвосте.
Так решил могущественный шах и вместо открытого воинственного насилия прибег к лицемерию и вероломству. С этого дня, затаив гнев и притворившись милостивцем, шах обрек разоренную им страну на тайное мучительство. Яркие лучи, бьющие прямо в лицо, ослепляют человека, и он перестает видеть вещи в их настоящем обличье… Шах своими щедрыми милостями ослепил Кахети. Желудок осилил сердце, голос плоти заглушил дух. И мало-помалу страна очутилась в западне. Новая политика быстро дала плоды. Не напрасно персы, следуя ей, лаской привлекали к себе руководящие круги грузинского народа. Грузины заняли при дворе шаха Аббаса высшие должности и, легко богатея, предались праздности и чувственным утехам.
Тут не нужны были ни ум, ни Знания, ни какие-либо другие человеческие качества. Для того чтобы возвыситься при шахе, достаточно было, предав родину, безраздельно служить Персии. Тот, кто неизменно помнил, что он грузин, не мог рассчитывать на успех, — его угнетали и принижали, будь он даже герой из героев.
Шах Аббас видел все это и посмеивался в душе: «иранский лев» даже своим преемникам завещал придерживаться и впредь той же политики, — вот почему не прошло и столетия, как Восточная Грузия наполовину омусульманилась: грузины переняли обычаи, нравы, веру и законы персов! В грузине уже никто бы не узнал грузина, даже язык подвергся искажению, а в знатных семьях стыдились разговаривать по-грузински. Правосудие совершалось на чуждом народу языке, даже службы и песнопения в церквах зазвучали как-то по-иному. Вместо архипастырей появились ахунди, священников и судей заменили муллами и кадиями. Все это так развратило людей, что грузин сам доносил на грузина. И в конце концов народ обессилел и пал до того, что и персы с презрением и хулой отзывались о некогда прославленной Грузии. Таким образом, во времена шаха Аббаса персам уже не приходилось хитрить и лукавить с Кахети, и в обессиленной жестоким игом стране они стали снова открыто чинить насилия.
Обманутая мелкими, вроде птичьей приманки, подачками, ослепленная шахскими милостями и лаской, страна поняла, что попала в кабалу- Но, чувствуя свое бессилие, народ не смел поднять голос. «Лучше хоть один вол, чем ни одного», — утешали себя люди и сами подставляли шею под ярмо.
Вельможи, которые раньше пренебрегали высшими придворными должностями амилахвара, амирэджиба, зшикага-баша и амирбара, теперь почитали за счастье служить хотя бы простыми чапарами.[13]
Обнищание раньше всего коснулось знати, и ожесточенное нуждой дворянство всей своей тяжестью навалилось на низшие сословия. Само дворянство пало до того, что стерлись даже родственные и кровные связи; каждый думал только о том, как бы что-нибудь урвать, и не щадил своего же родича; позабыв об исконных святынях, люди клялись именем шаха. И если среди дворян и князей еще попадался кое-где порядочный человек, не изменивший своей вере и болеющий душой за родину, — его осуждали и поносили свои же соплеменники.
Только в крестьянстве, среди рабочего люда, орошающего трудовым своим потом горы и долы страны, обагренной кровью предков, которые боролись и пали за родину, еще не заглохло чувство всенародного единства: крестьянство готово было вспыхнуть, подобно лучине, и ждало только искры.
Именно в это время жил в Кахети владетель Ахметы Бидзина Чолокашвили, человек безупречный и щедро одаренный природой; персам не удалось привлечь его на свою сторону ни угрозами, ни милостями. Кахетинцы удивлялись странному повелению Бидзины и осуждали его. — Слыханное ли дело, — говорили князья, — счастье стучится к нему прямо в ворота, а он чудит и не пускает его к себе в дом! Клянемся шахом, будь мы на его месте, мы бы показали себя на зависть врагам!
Много подобных пересудов доходило до Бидзины, но он отмалчивался… и только с сокрушением покачивал головой. Однажды к Бидзине пожаловал в гости его дядя Джандиери.
Этот Джандиери принадлежал к числу людей, которые, как говорится, держат нос по ветру и примыкают то к одному, то к другому лагерю, в зависимости от того, что им выгоднее. Возвысившись по милости персов, Джандиери пользовался в Кахети большим влиянием: он был чуть ли не первым советником при наместнике шаха; персидский правитель Пейкар-хан не решал без Джандиери даже самых мелких дел. Вот и теперь, как выяснилось впоследствии, он подослал своего советника к Бидзине Чолокашвили.
За обедом Джандиери не спеша, слово за слово, втянул хозяина в разговор:
— Племянник мой, — сказал он между прочим, — меня поистине удивляет твое упорство. Господь щедро одарил тебя. И ума у тебя достаточно и сообразительности. И судьба к тебе милостива! Но ты сам себе враг. Я уже говорил и повторяю: при дворе тебя ждет великое счастье, а ты, вроде бездельника нацаркекия, копаешься в золе и все о чем-то размышляешь. Почему ты никак не хочешь расстаться с Ахметой? Она твоя и никуда от тебя не убежит! Было бы куда разумнее приумножить свое состояние на стороне…
— У всякого свой нрав, дядя! — перебил его Бидзина. — Мне и здесь хорошо. Лучше поменьше, да чистого, чем побольше, да грязи!
— Грязи? Какой грязи? Значит, все мы, кто ныне при дворе шаха, по-твоему грязные люди?
— Я только о себе говорю…
— Ошибаешься! Погляди на других, как они пользуются случаем и как живут! Дай бог долголетия шаху! В наше время хорошо ли, худо ли, но его милостями кормится вся страна.
— Хм! Сначала вырывают изо рта последний кусок хлеба, а потом кидают нам, словно собакам, объедки со своего стола!
— Да, но если не будет и этого, мы же помрем с голоду!
— А по мне, лучше уж славная смерть, чем такая подлая жизнь, и пока я жив, буду бороться, чтоб вернуть то, что мне дороже всего.
— Поздно, мой дорогой! «И рад бы взять, да силы не занять!» Не слыхал? Никто уже в нашей стране так не рассуждает, чего же ты добьешься в одиночку? Недаром говорится: «Одна ласточка весны не делает».
— Весны не то что одна, но и тысяча ласточек не сделают, — но весна сама приводит с собою и одну и тысячи.
А что, если и наша весна не за горами? Нынче я один, а завтра нас будут и сотни и тысячи…
— Пусть так!.. Но бывает — и нередко, — что ранняя ласточка гибнет от стужи…
— Знаю, дядя, но все же я предпочитаю умереть вместе с предвестниками весны, чем жить в почете и довольстве среди пророков зимы. Знаю, как не знать, что власть и почет соблазнительны! Где Ахмета, а где — Тегеран! Там все пленяет взор, чарует ум и сердце, ублажает желудок… Однако как раз этого-то я больше всего и страшусь! Я не хочу забывать о том, что должно помнить и любить до самой смерти. Здесь, в этой маленькой Ахмете, все — как бальзам для моей души: поля, ручьи, горы, скалы, долины — все, все неразрывно связано с моей душой, я неизменно чувствую эту кровную связь, — чувствую и легче переношу невзгоды! А что мне может дать чужбина взамен всего этого? К чему мне внешний обманчивый блеск когда разум и чувства мои втайне угнетены и душа хиреет? Сладок ваш шербет, но я не променяю на него свое вино, окрашенное кровью моих дедов. Вкусен ваш лаваш, но я предпочитаю хлеб моей родины, замешанный на прахе наших предков!.. Да, да! Наши поля удобрены их костьми и плотью! И правы наши хлебопашцы, которые крестятся, прежде чем осушить чашу, и прикладываются к хлебу, прежде чем преломить его. Это наша величайшая святыня, это — наше причастие… Где же и чем мне причаститься, если покину свою родину? Пет, дядя, нет! Мы с ними чужды друг другу! Никакими силами не склеить того, что разъединено веками и самой природой. Освобождение — или смерть! Иного исхода нет!
Бидзина вскочил, выбежал на балкон и заметался как безумный. Джандиери покачал головой.
— Эх, какой человек пропадает! — сказал он с огорчением, вышел во двор замка, сел на коня и уехал.
Долго еще возбужденно шагал взад и вперед по балкону Бидзина, наконец утомился и, когда упали сумерки, присел на тахту, устремив взгляд на алазанские берега.
Сумерки постепенно сгущались. Бидзина ничего уже не мог разглядеть, зато слух его обострился… Ветер доносил плеск Алазани, он звучал жалобным стоном. Засверкали звезды. Луна еще скрывалась за горой, но край неба чуть засветился улыбкой, — вот-вот она взойдет.
Где-то поблизости послышалось щелканье бича, ароб-щик вполголоса затянул «Оровелу».