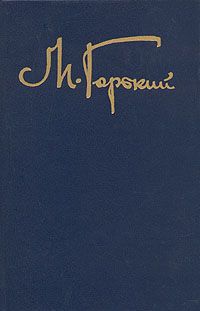Илья Клаз - Навеки вместе
— Хлебный, — Гришка Мешкович снял шапку, пригладил путаные волосы, и увидел незнакомого человека, сидящего поодаль, в темном углу. — Не свататься ли пришел?
— Нет, — проворчал Алексашка, подвигаясь на лавке ближе к свету.
Алексашка отвернулся к окошку. От неприятного разговора выручил Шаненя.
— Холопы бросают хаты и бегут в загон Небабы. Маентки и фольварки жгут, а панам секут головы… Вот и все вести.
— Под Гомелем? — вытянул шею Гришка Мешкович.
— Там, да и в других местах…
— Сказывал Савелий, чернь вилами и косами дерется яро, а все же сабли… Просил сабли и пики ковать.
— Из чего ковать? — хмыкнул Велесницкий. — Железо надобно.
— И я говорил ему. А Савелий свое: купить надо.
— Найти его можно, да за что купить?
Помолчали. Алексашка понимал, какое наставление привез Савелий. Понимал и то, что на сабли требуется отменное железо. У панов сабли отличные. Из немецкой стали кованные. Разве такую сталь найдешь в Пинске?
Шаненя словно перехватил Алексашкины мысли:
— Железо есть у пана Скочиковского.
Шановного пана Скочиковского в Пинске и далеко за ним знают. Вот уже десять лет, как пан Скочиковский в железоделательных печах плавит болотную руду. Вначале у пана была одна печь, а потом стало их семь. Четыреста пудов железа в год получает Скочиковский из печей. Сказывают, что железо у него покупает для казны ясновельможный пан гетман Януш Радзивилл. В Несвиже льют из него ядра к пушкам, куют алебарды и бердыши. Теперь, когда Хмель разбил коронное войско под Корсунем, пан Скочиковский соорудил еще две печи. Много железа надобно Речи Посполитой, чтоб вести войну с черкасами.
— Скочиковский железо не продаст, — заметил Мешкович. — Не станет пан голову свою на плаху класть… Чтоб потом этим железом смерд ему голову снял?
— Продаст! — возразил Шаненя. — Тайно продаст хоть черту! Жаден пан не в меру. А недавно заимел пару гнедых. Прислал хлопа, чтобы сбрую заказать. Сбрую сделаю, тогда и потолкуем с паном…
— Затеяли мужики громкое дело… — пожал плечами Мешкович. — Не знаю только, что из этого получится.
Шаненя настороженно посмотрел на Велесницкого. У того приподнялась и замерла бровь:
— А что ты, Гришка, хочешь, чтоб получилось?
— С кем за грудки беремся, Иван? — прищурил глаза Мешкович. — С панством? Пересадят на колья всех. Вчера войт пан Лука Ельский привел в Пинск рейтар. Все в латах. Мушкеты висят… Неужто с вилами да с пиками на них?
— Не пойму твоей речи… — встал с лавки Шаненя.
Гришка Мешкович замялся, но продолжал:
— Старики еще помнят, как пятьдесят год назад Наливайка брал Пинск. Захватили мужики город, разбили маенток епископа Тарлецкого. Он ведь был зачинщик Брестской унии… А потом что? Наливайку свои же казаки выдали… И закачался Северин на веревке в Варшаве…
— К чему это все, Гришка? — не стерпел Шаненя.
— Я не ворог, Иван. — Мешкович постучал кулаком по груди. — Как бы хуже не было? Пока есть, слава богу, хлеб и ремесло. Другой раз и перетерпеть можно панское лихо.
— Не буду! — Шаненя заскрипел зубами. — И Ермола не будет. И Алексашка. Спроси у него, что чинят иезуиты в Полоцке? Он тебе расскажет. А в Гомеле что деется? А в Слуцке? Прошелся Наливайко с саблей — полвека были покладисты паны, шелковые были.
— Опять казаки? — не унимался Мешкович. — Казаки про свою землю думают. А на Белую Русь идут не затем, чтобы тебя боронить. Чужими руками жар грести надумали. Туго им стало — сюда подались. Кончится война, и уйдут к себе в степи. А тут хоть пропади пропадом!
— Брешешь! — сурово перебил Шаненя. — Черкасы на Белой Руси выгоды не ищут. Пожива им тоже не нужна. Не татары. А то, что сюда подались, нет дива в этом. Нам туго будет, мы к черкасам пойдем. Помни, стоять нам вместе с Украиной!
— Я тоже так думаю, Гришка, — вмешался молчавший до сих пор Велесницкий. — У нас с черкасами единый шлях: под руку московского царя.
— Не знаю, — вздохнул утомленно Мешкович. — Каждый мыслит по-своему. Ты саблей с паном говорить хочешь, а я, думаю, — добрым словом. Живой человек живого понять может…
Мешкович встал с лавки, подошел к оконцу. Не мог различить сквозь мутное стекло, прошел ли дождь. Сверкнула молния, и раскат грома, казалось, встряхнул хату. Мешкович отпрянул от оконца. Но дождя уже не было. Лиловая туча тяжело поплыла за высокую крышу иезуитского коллегиума.
— Надо идти, баба хворая лежит, — засобирался Мешкович.
Шаненя и Велесницкий понимали, что баба — только отговорка. Не хочет Гришка продолжать начатый разговор…
Разговор в хате, свидетелем которого стал и Алексашка, внес сумятицу в его голове. Он и представить не мог, чтоб был разлад между мужиками. Оказывается, не все так просто, как думалось.
— С казаками разом… Осилим панов или нет, а разом…
Облегченный, протяжный вздох вырвался из груди Шанени. В первый раз, когда встретился в корчме с Савелием, уже тогда понял, что меряться с панами силой — надо иметь отвагу. Но соглашался с тайным посланцем гетмана Хмельницкого, что под лежачий камень вода не течет…
Смеркалось. В небе медленно ползли густые тучи. От них веяло холодом. А на горизонте справа и слева, и за Струменью-рекой сверкали молнии и долетали до города глухие, далекие раскаты грома. И казалось Ивану Шанене, что не молнии, а сабли сверкают и гремят кулеврины в хмуром и всклокоченном небе Белой Руси.
Глава пятая
Алексашка прижился в хате Ивана Шанени. Оказался Иван человеком добрым, работящим. Ремесло свое знал хорошо и, видно, потому в Пинске был всеми уважаем. Сбруя, которую делал Шаненя, была отменной. Для нее Иван доставал кожу мягкую и крепкую. Товар свой Шаненя не стыдился показывать и чужеземным купцам. Те хвалили. Алексашка к сбруе не касался. Во дворе Шаненя соорудил небольшую кузню, поставил горн. Как вначале и говорил ему, задумал делать дробницы на железном ходу. На таких нынче приезжают немецкие и курляндские купцы. В подтверждение своего намерения привез два воза углей, молоты, клещи и корыта для закалки железа.
Баба Иванова, Ховра, дала Алексашке порты, рубаху, сделала сенник и достала из сундука две постилки. Харчевался Алексашка Теребень за одним столом с хозяином. Жил в довольстве, но часто вспоминал родной и теперь далекий Полоцк. Сжималось от боли сердце. Там он родился и вырос, там овладел ремеслом. Там померли мать и отец. Вспоминал Фоньку Драного Носа. И чувствовало Алексашкино сердце, что сведут с ним иезуиты счеты за лентвойта. Бежать бы им вместе… Была в Полоцке и дивчина Юлька, которая приглянулась Алексашке. Знал Теребень, что и он ей мил. Да что теперь вспоминать о невозвратном! Заказана ему дорога в Полоцк. Пусть бы хоть чем-нибудь конопатая и молчаливая Устя напомнила ту, далекую…
С утра до полудня Алексашка возился в кузне — переделывал горн. Не понравилось, как сложили его. Мех был плоским и круглым. Алексашка сдавил его дубовыми шлеями и вытянул кишкой. Он стал узким, и ветер в нем упругой струей ходить будет. Держак сделал более длинным — легче качать. Когда закончил работу, насыпал углей, задул горн. Тяжело ухнул мех. Запахло углем и окалиной, как там, в Полоцке. Улыбнулся Алексашка: веселее стало на душе.
С полудня в кузне делать нечего. Пошел в хату. Шанени с утра не было дома. Ховра возилась на грядах. Алексашка отмыл от угля руки, сполоснул лицо и сел у стола на лавку. Пришла в хату Устя, отодвинула заслонку в печи, в глиняную миску налила крупнику. Миску поставила перед Алексашкой.
— Иван не говорил, скоро придет?
— Не говорил, — Устя пригнула голову.
— Ну, ты сегодня разговорчивая.
Показалось Алексашке, а может, и не показалось: зарделась Устя. Споткнулась, выходя, о порог. Алексашка вослед:
— Гляди, лоб не расшиби.
Устя уже из сеней:
— Не твое дело!
Алексашка ел крупник и думал про то, что жизнь в Пинске во много раз тревожней, чем там, в его родных краях. Ворота в город заперты… У ворот часовые денно и нощно с алебардами и бердышами. По городу разъезжают рейтары. Три дня назад через Северские ворота кони втянули две кулеврины, стреляющие четырехфунтовыми ядрами. Одну оставили тут же, вторую потянули по улицам к Лещинским воротам. Пушкари хлопотали возле кулеврин, раскладывали ядра, расставляли ящики с пыжами. Не на шутку всполошилось шановное пинское панство, услыхав про поражение под Пилявцами…
Сытно поев, Алексашка встал из-за стола. Делать было нечего. Вышел за ворота и улицей подался в город.
На базаре и возле корчмы людно. Вдоль торговых рядов купеческие повозки. Глазастая детвора в изодранных рубашонках вертится возле лошадей, рассматривая гривастых и лохмоногих тяжеловозов. Мужикам и бабам охота знать, что привезено в Пинск. В тонких дощатых ящиках обычно держат блону[1]. Дорогая штука для мужицкой избы. Загребница[2] тоже не с руки. Бабы сами ткут тонкое льняное полотно. Его скупают купцы в Пинске за гроши и везут в неметчину. Там серебряные талеры получают. А вот капцы — стоящий товар. Ни того, ни другого Алексашке не надо. Вошел в корчму. Пахнет брагой и пирогами. За двумя дубовыми столами — мужики. Шум и смех!