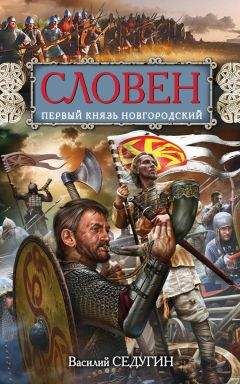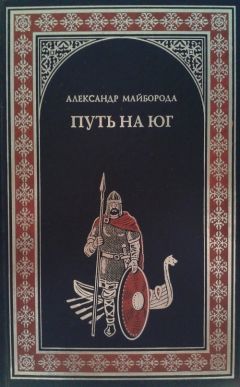Н. Северин - В поисках истины
Как и сестра, блекла она: печальное выражение точно застыло на ее бледном лице, глаза ввалились, вокруг них появились черные круги, и она так худела, что не успевали перешивать ей платья.
— Вас, сестрица, верно, замуж собираются отдать, — вымолвила Катерина, обращаясь к меньшой сестре после продолжительного молчания.
— Ах, что это вы, сестрица! — вскричала в смущении Клавдия, краснея до ушей.
— Дай вам Бог счастья, — сказала в свою очередь Мария, не поднимая глаз от работы и с трудом сдерживая слезы, подступавшие к глазам.
Она была очень нервная и давно уже страдала истерическими припадками, от которых втайне от всех лечилась домашними средствами, тщательно скрывая свои немощи и стыдясь их, как позорящего порока.
Клавдия, во всем блеске юности и красоты, свеженькая, румяная, с сверкающими, жизнерадостными карими глазами и пурпурными губами, представляла разительный контраст с увядающими сестрами.
Сердце ее сжималось жалостью к ним, но вместе с тем в душе ее поднимались и другие чувства. Жизнь брала свое. От платья, которое ей шили, она была в восторге. А красивые кавалеры! А оркестр! До сих пор она плясала только под гитару да балалайку повара Андрона на вечеринках, устраиваемых для дворни на святках, причем считала уж себя разряженной как нельзя лучше, когда ей повязывали через плечо старую материнскую шаль. Выделывала она старательно реверансы менуэта под пискливую скрипицу учителя танцев, старого поляка, но о настоящем бале она до сих пор и мечтать не смела, и у нее голова кружилась и сердце замирало от страха и волнения.
Но то, что случилось, превзошло самые дерзкие ее ожидания. Когда домашний парикмахер высоко поднял ее вьющиеся пепельного цвета волосы и приколол к ним розу с сверкающими на нежных лепестках росинками, да когда сверх белого атласного чехла на нее надели легкое, как облако, платье, усеянное серебристыми блестками, с короткими рукавами буфами, она оказалась такой красавицей, что все толпившиеся вокруг нее горничные, а также бабы и девчонки, выглядывавшие из дверей в коридоры, заахали от восхищения.
Да и у Анны Федоровны проскользнула самодовольная усмешка на надменном лице, когда ее позвали взглянуть на меньшую дочь в бальном наряде.
«Ну, эту, кажется, и без приданого нетрудно будет сбыть с рук», — подумала она, зорким взглядом окидывая с ног до головы смущенную девушку.
— Держись прямее, да, Боже упаси, па не перепутай, как в танец вступишь, — прибавила она вслух, строго сдвигая брови.
Прибежал и Федюша полюбоваться сестрицей. Поцеловав его, перекрестив и поручив попечениям двух нянек да мамушке, Анна Федоровна, в тюрбане, с райской птицей на голове, величаво драпируясь в богатую турецкую шаль и шумя тяжелой шелковой робой, прошла через гостиную и залу в переднюю, где лакеи ждали с салопами в руках ее появления. За нею на почтительном расстоянии шла Клавдия с бьющимся от волнения сердцем и раскрасневшимся личиком. Всю дорогу, в плавно покачивающейся на высоких рессорах карете, выслушивала она внимательно строгие наставления матери: не отходить от нее ни на шаг, не принимать приглашений, предварительно не взглянув на мать и не получив ее согласия, низко приседать перед дамами, опускать глаза перед мужчинами, говорить тихо и как можно меньше, не смеяться, а только улыбаться, да и то нечасто, и помнить па.
Все это мысленно повторяла Клавдия, поднимаясь за матерью по широкой, ярко освещенной лестнице с двумя рядами официантов в ливрейных фраках, в чулках и башмаках, а также и в прихожей, где снимали с нее салоп. Помнила она наставления матери и тогда, когда, потупив глаза, следовала за нею через длинную белую залу, наполненную блестящими кавалерами, военными и статскими, громко разговаривавшими между собою, а также и в гостиной, где поднялась к ним навстречу хозяйка дома, но, когда с хор грянула музыка и, отделившись от группы в дверях кабинета, к ней подлетел красавец в мундире, гремя шпорами, и она, с дозволения матери, протянула ему тонкую, еще детскую руку в лайковой перчатке, Клавдия все, забыла и в волшебном упоении понеслась с ним по зале с таким чувством в душе, точно она несется к вечному счастью и конца не будет испытываемому ею блаженству.
Единогласно провозглашена она была царицей бала, эта наивная, глупенькая четырнадцатилетняя девочка. Все хотели с нею потанцевать или по крайней мере поглядеть на нее. Для этого старики покидали карты, а молодые своих дам. Сановитый вельможа, находившийся проездом в городе, и, в честь которого давался этот бал, пожелал быть представленным г-же Курлятьевой, чтобы поздравить ее с счастьем обладать такой прелестной дочерью, заверяя при этом честью, что Клавдия могла бы служить украшением столичного общества.
— С вашей стороны жестоко, сударыня, лишать высший свет такой красы, — прибавил он галантно.
Лучшие женихи наперебой старались заручиться обещанием Клавдии протанцевать с ними, хотя бы один экосез или один матрадур, и даже граф Паланецкий, знатный вельможа, появившийся в здешнем городе с месяц тому назад с целью купить имение, обратил на нее внимание и пригласил ее на мазурку. Одним словом, успех ее первого выезда в свет был полный.
Да и дома впечатление, произведенное ее красотой, долго не рассеивалось. Уж и карета, возившая барыню с барышней на бал, давно отъехала, и все свечи и кенкеты в господских комнатах были погашены, и лакеи полегли спать на кониках и на полу, а в девичьей все еще толковали про Клавдию Николаевну.
— Эту в Христовы невесты ей записать не удастся, — ворчала сквозь зубы старуха Степановна, барынина кормилица, спустившаяся с лежанки, чтобы взглянуть на маленькую барышню в бальном наряде. — Глаза-то, как звезды!
— Да уж, красавица, нечего сказать.
— И сестры были хороши, но она куда их лучше.
— Женихи-то все глаза на нее проглядят.
— Не сглазили бы только, упаси Бог!
— Зашила ты ей в поясок ладанку, что я тебе дала?
— Зашила, бабушка, не бойся.
— Ну, значит, злого глаза бояться нечего.
— А все же, как вернется, надо водицей с уголька спрыснуть.
— Уж это само собой.
— И кто мог думать, что такая красавица писаная из нее выйдет! Вылитая тетенька Татьяна Платоновна.
— Это старая-то барыня?!
— Дура! Да ведь и она тоже молоденькая была. А за красоту-то ее к царице в фрейлины взяли.
— Как сейчас ее вижу, как мы ее на придворный бал снаряжали. Тогда носили юбки-то пузырями огромнейшими, панье вершюгадон назывались, а лиф с мысом ниже брюха и весь на костях, вроде как панцирь у рыцаря. Башмаки на красных каблуках, а волосы в пудре, как и теперь, но только куда больше наверчивали на них всякой всячины, и буклей, и цветов с листьями, и каменьев драгоценных, а поверх всего либо кораблик, либо птичка, либо другое что.
— Как на патретах, что в гостиной висят?
— Вот, вот. На патретах-то родители барина написаны.
Пока разговоры эти происходили в девичьей, старшая няня укладывала в постель наследника курлятьевских господ, ненаглядного маменькиного баловня Федюшу. И, как всегда, чтобы он скорее заснул и чтобы грезились ему приятные сны, монотонным голосом рассказывала она ему сказки, тщательно избегая при этом упоминать про ведьм и леших, останавливаясь исключительно на приятных и красивых представлениях очарованных садов с золотыми яблоками, на подвигах юных царевичей в погонях за красавицами царевнами. Красноречиво описывала она озера с плавающими лебедями, превращающимися, при мановении волшебной палочки, в пригожих девиц, и прочее, все в том же приятном роде. И все сказочные герои, о которых шла речь, непременно назывались Федичками, и у всех у них были золотые кудри и синие глаза, так что слушателю поневоле казалось, что ему про него самого рассказывают, что это он скачет по полям и долам на Сивке-Бурке, взлетает под облака на Жар-птице, лакомится золотыми яблоками и всевозможными сластями во дворце царя Берендея и похищает себе в невесты хорошенькую девочку из заколдованного терема, чтобы всю жизнь потом играть с нею в чудесном саду, где все деревья сахарные, ручьи сытовые, беседки прянишные.
Федичка спал в спальне матери, на ее высокой и широкой кровати из красного дерева, под штофным красным пологом, спускавшимся с потолка из когтей большущей медной птицы с распростертыми крыльями.
Анна Федоровна так его обожала, что и ночью не хотела с ним расставаться. С той минуты как он появился на свет, решила она, что он займет на ее широкой кровати место изгнанного из супружеской спальни Николая Семеновича.
А наверху в комнатке старших барышень, убого обставленной сборной мебелью, с двумя жесткими и узкими кроватями и с пяльцами у окна, что выходило на тот самый пустырек, на который отворялось и окно папенькиной молельни, перед большим киотом, заставленным древними, почерневшими от времени образами с теплившейся перед ними и день, и ночь лампадой, — вот что происходило.