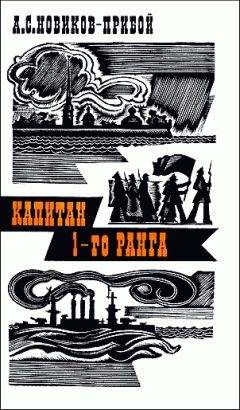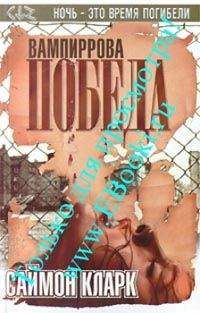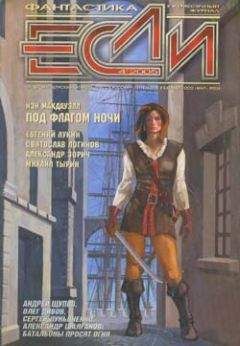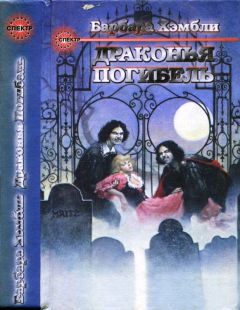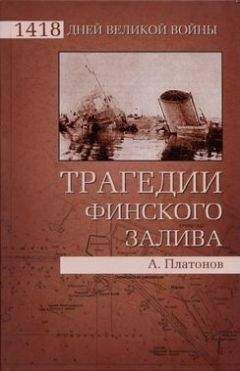Софья Бородицкая - Две невесты Петра II
При первом же известии об исчезновении сына Пётр посылает на его поиски искусных сыщиков: Веселовского[5] — русского резидента в Вене, капитана Румянцева[6], затем графа и дипломата Толстого[7]. За царевичем Алексеем устроена настоящая погоня, которая продолжалась целый год.
Наконец Алексей был найден Румянцевым и Толстым в Неаполе, в крепости Сен-Эльм. Началось давление на Алексея. Ему было показано письмо Петра, грозное и в то же время милостивое, обещавшее прощение за все провинности взамен покорности и возвращения в Россию. В конце концов под большим давлением Толстого и Румянцева Алексей соглашается вернуться, выговорив себе два условия: во-первых, позволение спокойно жить в своих поместьях, во-вторых, разрешение на брак с Ефросиньей. После поклонения мощам Святого Николая в Бари Алексей отдаётся в руки преследователей, дав согласие добровольно возвратиться с ними в Россию.
Письмо Петра, полученное Алексеем уже в дороге, совсем успокоило его. Отец разрешал ему жениться на Ефросинье с одним условием: чтобы венчание происходило в России. «...А чтоб в чужих краях жениться, то больше стыда принесёт», — писал в своём письме Пётр. 31 января 1718 года Алексей прибыл в Москву.
Возвращение опального царевича вызвало сильную тревогу как среди его сторонников, так и среди противников, которые понимали, что грозный царь не удовлетворится этим. Уже 3 февраля 1718 года в Кремле было созвано собрание высшего духовенства и гражданских сановников. Алексей появился перед ними в качестве обвиняемого без шпаги. При виде сына Петра охватил гнев, он осыпал его упрёками, бранью. Царевич упал на колени, плача, просил о прощении, поверив которому согласился вернуться. Пётр обещал простить, но прежде виновный и недостойный царевич должен был торжественно отказаться от престола и выдать соучастников своей вины, всех, кто советовал ему преступно бежать. Началось то, чего все со страхом ожидали: допросы, пытки, казни.
В Успенском соборе Алексей отрёкся от престола в пользу своего брата Петра, сына Екатерины.
В беседах с отцом с глазу на глаз Алексей выдал всех, кого мог вспомнить, кто помогал ему добрым слоном или делом.
Кикин, Вяземский, Долгорукий[8], камердинер Афанасьев были выданы первыми. Хотя в ходе следствия выяснилось, что между Алексеем и его друзьями не существовало никакого соглашения относительно преследования определённой цели, не было и тени заговори, все схваченные были строго наказаны. Более всех пострадал бывший сподвижник и друг Петра — Кикин: получив сто ударов кнута, он был колесован.
Вяземский и Долгорукий были лишены имений, должностей и сосланы. Пётр заставил Алексея присутствовать при казни своих друзей, затем его увезли в Петербург.
Царевич полагал, что теперь всё кончилось, и был даже доволен своей судьбой. Пережитые им несчастья сделали его бесчувственным.
Допрос Ефросиньи, привезённой в Петербург позже Алексея, дал материал для нового розыска. Передавая разговоры, которые вёл с нею Алексей, Ефросинья донесла о «непристойных» его речах: «Когда буду государем, буду жить зиму в Москве, лето в Ярославле. Петербург оставлю простым городом... Когда узнал о болезни маленького Петра Петровича, говорил: «Вот видишь, что Бог делает. Батюшка делает своё, а Бог своё».
В мае 1718 года Алексей был сопровождён Петром в Петергоф, и это не была увеселительная прогулка. Впоследствии один из крестьян был осуждён на каторгу за то, что рассказывал, как царевича в той загородной поездке отвели в отдалённый сарай и оттуда раздавались крики и стоны.
13 июня Пётр созвал собрание духовенства и гражданских чинов, вручил им записку, в которой, взывая к их правосудию, просил решить между ним и сыном неправый спор. В собрании духовенство затруднилось высказаться определённо, через пять дней оно дало уклончивый ответ. Сенат требовал дополнительного следствия. Это было самым большим желанием Петра, что означало гибель для Алексея.
Дополнительное дознание не принесло ничего нового, не было выявлено никакого заговора, только «слова многие».
19 июня царевич был подвергнут пытке. Двадцать пять ударов кнута и новое признание Алексея под пыткой. Да, он желал смерти своего отца, в этом он признался своему духовнику и получил от него ответ: «Бог тебе простит, мы все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Однако для обвинения царевича этого было мало. Толстой, ведущий следствие, хотел найти факты. Алексей сделал очередное признание. 24 июня новый допрос в застенке. Всем было ясно, что ни кнут, ни дыба не дадут больше ничего, однако нельзя было допустить, чтобы царевича оправдали.
Несмотря на легковесность улик, собранных против него, Алексей всё же олицетворял в глазах Петра-преобразователя враждебную партию, против которой царь вёл борьбу уже двадцать лет, — это были противники, мятежники, с которыми он оказался лицом к лицу.
Верховный суд, состоявший из сенаторов, министров, высших военных чинов, гвардейских штаб-офицеров (участие духовенства как ненадёжного было отклонено), должен был вынести приговор. Сто двадцать семь судей, и каждый знает, чего ждёт от него Пётр, и никто не имеет смелости отказать ему в своём голосе. Единственный гвардейский офицер уклонился от подписи: он не умел писать.
24 июня царевичу был вынесен смертный приговор. Однако он не был приведён в исполнение. Алексей умер раньше, чем свершилась воля суда, направляемая Петром. Случилось это 26 июля 1718 года в застенках Петропавловской крепости.
Глава 4
— Ты говоришь «убили», — тихо произнёс старый князь, передавая сыну свёрнутую бумагу, — но здесь сказано, что умер он.
Князь Григорий снова взял и развернул бумагу. Поднеся её ближе к огню, он прочёл:
— «...пресёк вчерашнего дня его, сына нашего Алексея, живот по приключившейся ему по объявлению оной сентеции и обличения его в столь великих против нас и всего государства преступлений жестокой болезни...»
Князь остановился, значительно взглянул на сына и продолжил чтение, но медленнее и чуть громче:
— «...которая вначале была подобна апоплексии...»
Он повторил это слово несколько раз — «апоплексии».
— Не читай дальше, — прервал его князь Алексей. — Всё это ложь.
— Что ложь? — удивился старый князь.
— Всё ложь! И апоплексия, и то, что Алексей исповедался и причастился! Всё ложь! Не мог он исповедаться и причаститься не мог!
Несколько мгновений отец и сын молча смотрели друг на друга.
— Почему ж ты так мыслишь? — неуверенно спросил сына Григорий Фёдорович.
— Некогда было ему, — горько усмехнулся князь Алексей, — не успел он исповедаться, под пыткой умер.
— Под пыткой, под пыткой, — опустив голову на грудь, тихо проговорил старый князь.
Иваном овладел такой страх, словно здесь, рядом, стоял кто-то, готовый каждую минуту схватить и его, и отца, и деда.
Утром, ещё до отъезда отца, Иван незаметно выбрался из дому и помчался прочь, не разбирая дороги, лишь бы быть дальше, как можно дальше от всего услышанного вечером. Он боялся, что вопреки обещанию отца оставить его у деда тот вдруг передумает и увезёт его туда, в страшную и забытую им Россию. Его нашли на дальнем лугу пастухи и принесли в дом без чувств.
Перепуганный дед не отходил от него, пока Иван не пришёл в сознание. Потом ещё несколько дней он пролежал в постели в жестокой лихорадке, но, открывая глаза, всегда видел склонённое над ним встревоженное лицо деда.
Как-то князь Григорий застал внука горько плачущим и долго не мог дознаться, чем вызваны его слёзы и тот давний побег из дому, который едва не стоил ему жизни.
— Хорошо, — говорил князь, — что наткнулись на тебя знакомые люди, не то, кто знает где бы ты сейчас был!
Иван перестал плакать, приподнялся на постели, схватил руку деда, прижал её к своему мокрому от слёз лицу и забормотал быстро, голосом, прерывающимся от рыданий:
— Поклянись мне, поклянись сейчас, — он умоляюще посмотрел на деда, — что не отправишь меня туда...
— Куда туда? — удивился старый князь.
— Ну, туда, — всё ещё всхлипывая и утирая лицо и нос рукой, быстро сказал Иван. — Туда, в Москву, — пояснил он.
— В Москву-у? — изумлённо протянул Григорий Фёдорович. — Зачем же я тебя туда отправлю? Ты тут у меня живёшь. Мы ведь с тобой дружим? Дружим, — повторил князь, гладя внука по взлохмаченной и влажной от лихорадки голове. — Ну так как? Дружим мы с тобой или нет? — спросил он, ласково улыбаясь внуку.
Вместо ответа Иван крепко прижал к своим губам руку деда и поцеловал.
— Ну, будет, будет, — успокаивал Ивана растроганный князь. — Не бойся, не бойся, — повторял он, — я тебя от себя никуда не отпущу. Будешь здесь со мной, хочешь?