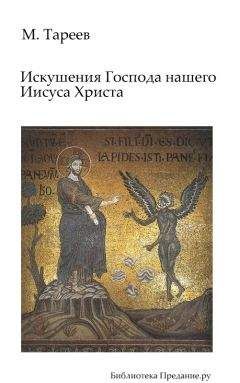Андрей Климов - Моя сумасшедшая
7
Дарину и дочерей он отправил за город — погостить у Филиппенко на даче.
Майя Светличная простилась с Лесей накануне. Ее брат вернулся с Совнаркомовской спустя сутки после ареста, и Сильвестр в тот же вечер спустился к ним. Майя открыла ему дверь и ушла в кухню. Дмитрий сидел за столом, упорно глядя в темное стекло, и даже головы не повернул в его сторону. Сильвестр молча постоял, глядя на Митину руку, лежащую на клеенке. Тонкие пальцы отбивали замысловатый ритм, затихали и снова пускались в пляс.
Неслышно вошла Майя.
— Присаживайся, Гордей, раз явился. Я сейчас чаю поставлю… Это он из-за Фроси Булавиной, — Майя поежилась. — Только что звонил Лохматый. Кроме того…
— А что с Фросей? — он повернулся к женщине.
— Нету ее больше. Покончила с собой. Михась собирался на следующий день после похорон зайти к Булавиным — они вроде бы заранее договорились. Лохматый Шуста не жалует и не хотел с ним встречаться. Фрося ему сказала: приходи, Ивана с утра не будет… Ну, пришел. Стучал, звонил от соседей по телефону, бегал по городу, пытался выяснить. В конце концов убедил службу охраны, дом все-таки ведомственный, — дверь взломали. Она уже давно там лежала. Рядом — шприц…
Сильвестр сел за стол. Митя вздрогнул и резко обернулся к нему. Подвижное, всегда оживленное лицо было будто в пыльном треснувшем зеркале.
— Тебя что, били там? — вполголоса, чтобы не слышала Майя, спросил Сильвестр.
— Напротив, обходительная падла попалась. Некто Мишарин. Тот самый, что меня брал на кладбище… Допрашивали обо всех, и в деталях. Даже о несчастной Фроське, — Митя криво усмехнулся. — Между прочим, знают они больше, чем мы с тобой. Как заезженная пластинка: где был, с кем встречался, что говорилось, кто присутствовал. Только о Хорунжем и Юлианове ни звука… Отвалил этот хлыщ где-то к полуночи, а меня оставил в кабинете на выстойке. Сесть нельзя, и жажда вдобавок: воды не дают ни капли. У меня уже и слюна кончилась, губы начали лопаться. В рожу при случае плюнуть нечем…
Майя придвинула брату чашку, взглянула укоризненно.
— Ладно-ладно, не буду… — Дмитрий ткнул носом в чашку, принюхался. — Опять какой-то травы насовала! Думает, мне успокоительное требуется. Я в норме, сестричка. Да, потом пошла какая-то чертовня. Только один опер отвалил, заявился другой. С виду — сущий пидор… Не перебивай, Майя! Росту метр с кепкой, ноги колесом, холка в щетине, как у борова, а голосишко писклявый. И началось! С четверть часа он орал на меня, будто припадочный. Ну, думаю, сейчас начнут обрабатывать по всем правилам. Хотя мне уже все равно, только не соображу никак, чего они от меня добиваются… Тут дверь нараспашку — стоп, машина, задний ход. Повели коридорами, потом — в подвал, в камеру к каким-то бедолагам. Дали кружку воды. Я залез под нары и продрых почти сутки, пока вохра не разбудила и не вытолкала взашей. И что, по-твоему, это может означать?
— Забудь, — сказал Сильвестр. — Разминаются парни.
— Ну, хватит! — Майя решительно прихлопнула ладонью по столу. — Тебя выпустили, и это главное. Мы уезжаем к родителям. И ты, Митька, останешься с ними.
— И что я там буду делать? — буркнул Светличный, с отвращением отхлебывая из чашки. — Сяду на шею старикам? Захотят — и там достанут. А ты полезешь обратно, в самое пекло, чтобы тебя загребли и какой-то козел лапал тебя на допросах? Этого ты добиваешься?
— Ты знаешь, Дмитрий, чего я добиваюсь. Освобождения Павла.
В их перепалку Сильвестр не вмешивался. У него был свой план. Нужно только дождаться, когда оба утихнут. И тогда он примирительно скажет, обращаясь к Мите:
— Вот что, друже! И в самом деле не грех хоть раз в пять лет проведать отца и матушку. А к осени… В октябре я организую тебе вызов в Киев. К себе в редакцию. Дело для тебя, думаю, найдется…
Сильвестр все же пришел на вокзал.
Как ни тяжко было ему видеть Тамару, но поговорить с Олесей он счел своим долгом. Девочке придется жить рядом с этой женщиной неизвестно сколько; все имеет значение в этом мире, в особенности ложь.
Днем у Сильвестра была возможность сказать то, что хотел, но он почему-то заколебался. Олеся позвала его к себе — забрать то, что ему покажется ценным из библиотеки, оставшейся от Хорунжего. С самого утра он начал просматривать содержимое полок и письменного стола в кабинете, где они с Петром виделись в последний раз.
Книги были в основном с дарственными надписями — их он решил не трогать. Пусть с этим разбирается новый хозяин квартиры. Кое-что Олеся отнесла к Светличным, пару томиков сунула в свой баул; Сильвестр отобрал с десяток киевских изданий, ранний роман Петра, а прочее расставил по местам.
Окинул взглядом. Сколько было написано за последнее десятилетие — какая-то бумажная лихорадка! Будто важнее дел не нашлось. Все, кому не лень, вдруг пожелали высказаться, закрепить сырой, плохо переваренный сумбур мыслей типографским способом, заявить о себе во всеуслышание. Потом начался естественный отбор. Все эти тонкие брошюрки на ржавой бумаге начала двадцатых, канувшие в поток времени и всеми забытые, то, что составляло суть нашей жизни, теперь только здесь и можно увидеть. Петр зачем-то разыскивал и берег их. Кому они могут понадобиться там, впереди, где и имен наших не станет?
Оголившийся, посветлевший кабинет Олеся прибрала, словно часовню к празднику. Вымыла окно и пол, протерла каждый предмет, поставила на стол пепельницу и вазу с цветами. На ковре над кушеткой, на том месте, где обычно находился штуцер Петра, изъятый при дознании, теперь висела гитара. Все это она проделала без единого слова, будто совершая погребальный обряд…
Ехать им предстояло через Москву, с пересадками. На пустующем перроне были грудой свалены вещи: баулы, чемоданы, картонки. Никита, отчаянно боявшийся опоздать, привез их к поезду задолго до отправления. Олеся сидела на фанерном, туго перевязанном веревкой чемодане, поставленном стоймя на грязном асфальте. Сторожила багаж. Остальные куда-то ушли, и наконец-то они остались вдвоем.
— Деточка, — наконец решился Сильвестр. — Мне… Я хочу поговорить о твоей матери…
— Я все знаю, Гордей Власович. Это Тамара донесла на Юлианова.
— Ну, раз так… — растерялся он.
— И еще я знаю, — перебила она, — все, что будет дальше. Дьявол хозяйничает на этой земле. К нам с Хорунжим он всего лишь заглянул в окно.
— Олеся, ты здорова? — Сильвестр встревожился. Вечер был теплый, но она куталась в теплую вязаную кофту, будто ее знобило. — Ты не простудилась?
— Я чувствую себя хорошо. Не люблю вокзалов, не выношу ожидания.
— Ты напишешь, как вы устроились?
— Никита напишет. Я не любительница…
— Чем собираешься заняться?
— Не знаю, — через силу улыбнулась она. — Петр Георгиевич вырастил меня белоручкой… Сначала мы едем к родителям Никиты, а потом, может быть, переберемся в город. Попробую учить детей музыке.
— Никита тебя любит. Вы оба молодые и сильные. Проживете. Все буде добре.
— Так… — сказала Олеся. — Має бути.
Перрон уже наполнялся разношерстным людом, в основном мешочниками, пробирающимися в Белгород, но были и военные, несколько солидных пар с детьми. Поезд еще не подали, когда показался Никита Орлов, взбудораженный, с пакетами в обеих руках, шарил глазами в толпе — искал Олесю. За ним под руку с ветеринаром спешила Тамара Клименко, и даже издали было видно, что она снова чем-то недовольна.
— Прощавай, люба дiвчинко. Хай щастить…
— I вам теж, Сильвестре!
Он порывисто зашагал по перрону, почти побежал, и больше уже не оглядывался. Олеся же неотрывно смотрела вслед, будто хотела навсегда запомнить его рослую, осанистую фигуру, широкую спину, обтянутую безукоризненно отглаженной тенниской в мелкую полоску. Сильвестр питал слабость к шляпам — и сейчас был в кремовой летней панаме, скрывавшей его буйную золотистую шевелюру. Петр беззлобно посмеивался над его «шляпной болезнью». Павел тоже был рослым — бритоголовый и круглолицый, с синими «византийскими» глазами. Хорунжий казался мельче, подвижнее, смуглее, одевался небрежно, однако когда эти трое стояли рядом на сцене, или шли по улице, или вваливались в квартиру, не прерывая спора, то казались братьями…
Вот и Сильвестра больше нет, не видно в сутолоке.
Сейчас он вернется домой. Очень медленно поднимется по лестнице и остановится на площадке, где находится их бывшая квартира. Посмотрит сначала на молчаливую дверь Светличных, потом переведет взгляд туда, где не раз встречал его на пороге Петр Хорунжий. Затем еще четыре лестничных марша вверх, слегка задыхаясь, потому что сердце, сжатое от смертной тоски, не может привычно гнать кровь. Отопрет дверь пустой квартиры, пройдет к себе — там с утра на полу остались перевязанные стопки книжек, и, не снимая шляпы, потянется к буфету. Отыщет бутылку, затем стакан. Нальет и выпьет стоя до дна — только затем, как ему кажется, чтобы заставить бедное сердце трудиться как положено.