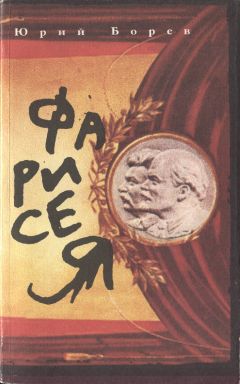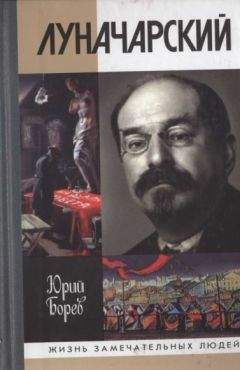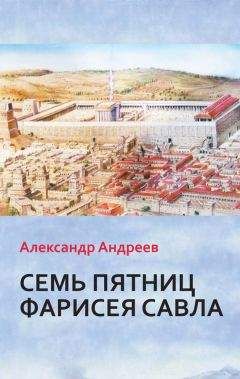Дмитрий Мережковский - Александр Первый
С некоторых пор ее не узнать: всегда была чопорной, на этикете помешанной, а тут вдруг на старости лет окружила себя фрейлинами-девчонками, офицерами-мальчишками и резвится с ними, как будто ей не шестьдесят, а шестнадцать лет; балы, пикники, маскарады, ужины, концерты, фейерверки, иллюминации. Сама скачет, и все за нею высуня язык, из Петербурга в Павловск, из Павловска в Гатчину, из Гатчины в Царское. У меня голова кругом идет, а ей – нипочем.
Выдумала недавно наряжаться для верховой езды в мужское платье: лиловый, шитый золотом кафтан, на голове шапочка с пером, на ногах белое трико в обтяжку. Так как при ее полноте это не очень пристойно, то публику в парк не пускают; дежурный камер-паж бежит впереди, вертя чугунной трещоткой.
Да, не очень пристойно, но зато как вкусно живет! Вкусно пьет свой крепкий кофе и раскладывает гран-пасьянс; вкусно дышит прохладою, открывая форточки и простужая всех; вкусно хозяйничает в Павловском молочном домике, такая румяная, белая, свежая, что, кажется, от нее самой, как от бабы-коровницы, пахнет парным молоком; вкусно говорит: «Мои милые коровки, телятки! мой милый Павловск со всеми добрыми моими детьми!» А всего вкуснее спасает душу свою филантропией: «Я, – говорит, – в жизни своей не скоро могла бы иметь так много удовольствий, когда бы не было бедных!»
Уж не завидую ли я, потому что сама так невкусно живу? Иногда думаю: вот какой надо быть; вот кто вошел в жизнь, как следует; не сомневался, принять ее или нет – рождаться ли? Без сомнения родилась, без сомнения рожала. «Право, сударыня, вы мастерица детей на свет производить!» – говорила ей бабушка. И вот, может быть, истинная религия: так рассчитывать на милость Божию, чтобы не портить себе крови ничем.
А я – какая дура!
Павловск – рай, но меня тошнит от этого рая. Чистильщики прудов вытаскивают иногда из тины у Острова Любви дохлую кошку или газетный листок. В вечных туманах – сладкая гарь торфяного пожара с камфорною гнилью болот. Пахнет розами и пахнет лягушками. Тут царство лягушек. Императрица их любит, и придворный поэт ее Жуковский умеет готовить мясо лягушечьих филейчиков в серебряной кастрюльке под кисленьким соусом. Все облизываются, а меня тошнит.
В Розовом павильоне, за чаем – разговор о крепостном состоянии крестьян.
Жуковский, Карамзин, Крылов, Нелединский, новый министр Шишков и еще какие-то старые старички, сенаторы, из которых песок сыплется. Все были согласны, что не нужно вольности. Я имела глупость возражать; сказала то, что всегда думала:
– Уничтожить рабство крестьян – есть первая цель всего в России.
Они вдруг замолчали и сконфузились, как будто я сказала что-то неприличное; потом Карамзин начал потихоньку исправлять мою глупость, доказывая, что «народ наш, удален бывши от того, чтобы почитать себя в рабстве, привязан душой к образу своего существования и находит в нем счастье»; когда же императрица-мать мнение сие одобрила, все вдруг на меня накинулись.
В саду – концерт молоденьких лягушек, а в Розовом павильоне – концерт старых жаб.
– Помилуйте, да русские мужики живут, как у Христа за пазухой! – воскликнул Жуковский. – То неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у доброго помещика нет во всей вселенной.
– Для мужиков, одним видом от скота отличающихся, вольность есть тунеядство и необузданность, – подхватил Нелединский.
– Господа помещики в государстве, как пальцы у рук: высвободи вожжи из пальцев, то лошади куда занесут! – прошамкал один старичок.
– Не можно себе представить, какая каша будет из вольности, – прошамкал другой.
Шишков побледнел и затрясся.
– Неужели все ужасы Европы не научили нас, что вольность, сей идол чужеземных слепцов, ведет к буйству, разврату и ниспровержению власти? Десница Вышнего хранит нас; чего нам лучше желать?
А самая толстая жаба, Крылов, молчал, но по лицу его видно было, что он о вольности думает.
Я чувствовала, что не выдержу, наговорю еще больших глупостей, – встала и ушла.
Жуковский догнал меня. Он знает, что я его не очень люблю, и это беспокоит его: какая ни на есть, а все же императрица.
Начал извиняться за несогласное мнение о вольности и спросил, не сержусь ли я на него.
– Полноте, Василий Андреевич… Посмотри-ка лучше, какая луна!
Мы шли пустынной аллеей, по берегу озера.
– Ох, уж эта мне луна! – поморщился он: – того я гляди, Отчет заставят писать…
О павловских лунных ночах пишет для императрицы отчеты в стихах.
Загляделся, однако, замечтался и зафилософствовал:
– Смерть, в ее истинном смысле, лучше жизни. Нетленного нет на земле: оно нас ждет за дверью гроба. А на земле всего верней – мечтать…
Я слушала и думала: за что я его не люблю? Он добр и умен; его стихи очаровательны. Но вот не люблю.
Толстенький, кругленький, лысенький, как тот фарфоровый китаец в окне чайной лавки, который кивает головой, как будто говорит: «Все к лучшему!» На лице его превосходительства написано: «Слава царю земному и небесному, – а я всем доволен, и жалованьем, и наградными».
Только от застарелой романтической грусти у него завалы в печени, и он, по совету медиков, на деревянной лошадке для моциона качается.
Гете, когда его спросили, что он о Жуковском думает, сказал: «Далеко пойдет! Кажется, уже действительный статский советник?» О нем же словечко Вяземского: «Хотя Жуковский жив и здравствует, а хочется сказать: славный был покойник, царствие ему небесное!»
Придворный поэт, почивший на павловских розах, придворный повар Овсяного Киселя и лягушечьих филейчиков. Намедни, защищая смертную казнь, он доказывал, что из нее надо бы сделать «христианское таинство».
– Иной философии быть не может, как философия христианства: от Бога к Богу, – говорил он теперь, глядя на луну. – Желать чего-нибудь страстно – значит мешаться в дело Провидения. Середина есть то, что всякий человек избирать должен…
– Серединка на половинке? – не выдержала я, наконец, – рассмеялась. – А помните, ваше превосходительство: – Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву…
– Грешен, ваше величество, люблю овсяный кисель, и вы когда-нибудь полюбите!
Я заглянула в его китайские глазки и ничего не ответила. Но он, кажется, понял, что меня тошнит.
Путешествие государя по восточным губерниям назначено осенью. Уедет в августе, вернется в ноябре. Я останусь одна в Царском и думаю об этом с ужасом. С какой бы радостью я поехала с ним! Но он и слышать не хочет.
Эти вечные отъезды – бедствие жизни моей. Если не проехал он за год тысяч двенадцать верст – ему не по себе. А за всю свою жизнь сделал не меньше 200.000. Это настоящая болезнь. «Лучше всего, – говорит, – чувствую себя в коляске: там только я спокоен».
Как будто не находит себе места, от невидимой погони бегает, скачет, сломя голову, так что лошадей загоняет. На малейшее промедление сердится: «Я уже и так, – говорит, – полчаса по маршруту промешкал!»
Вечно торопится, боится опоздать куда-то; уверяет, будто ему надо что-то осматривать; но это предлог: путешествует без всякой цели. Сам над собою смеется:
– Я – Вечный Жид. Ни на что уж не годен, как только скитаться по белу свету, словно на мне отяготело пророчество: и будет ти всякое место в продвижение.
Он уехал. Я одна. Живу в Царском. Здесь хорошо осенью – пустынно, тихо. В ясные ночи в окна смотрит луна, моя единственная собеседница. А я, в сорок лет, как глупая девочка, грущу при луне о возлюбленном.
Карамзин тоже здесь. Мы с ним часто видаемся. Я ему читаю дневник. Иные места не хватает духу прочесть; тогда передаю ему, и он прочитывает молча. Иногда вижу слезы на глазах его, но не стыжусь: он меня любит.
– Умею, – говорит, – издали смотреть на вас с тем чувством, которое возьму с собой и на тот свет: для истинной любви здешняя жизнь коротка.
Бродим вдвоем по пустынным аллеям, где желтые листья падают.
«Моя вечерняя жизнь…» – сказал он однажды. Как хорошо сказано: вечерняя жизнь. Оба – старые, усталые, вечерние. Жалуемся друг другу, кряхтим да охаем.
– Я, ваше величество, приобрел в рюматизмах новую опытность. Несмотря на благоприятное действие атмосферического воздуха, чувствую в моих ежедневных прогулках почти болезненную томность, – говорит он, опираясь на палочку и прихрамывая.
И, как два старика, поддерживаем друг друга под руку, а желтые листья падают.
Здесь, в Царском, позднею осенью, как никогда и нигде, вспоминается мне моя молодость. Вот на этом лугу, – он тогда назывался Розовым Полем, потому что весь был обсажен розами, – сиживала императрица-бабушка; ее, уже больную, катали в креслах на колесиках, а мы перед нею бегали взапуски, играли в горелки, в пятнашки, в веревочку. Мой жених – шестнадцатилетний мальчик, а я невеста – четырнадцатилетняя девочка.
Бабушка, недовольная тем, что по ночам крали розы, поставила здесь часового. Прошли годы, розы одичали, а часовой на том же месте, как полвека назад, сторожит несуществующие розы – розы воспоминаний. И кажется мне, что все еще бегает здесь шестнадцатилетний мальчик с четырнадцатилетней девочкой.