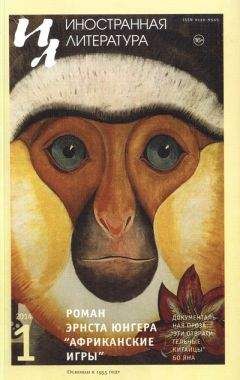Елена Хаецкая - Мишель
Ужасно далеко.
Васильчиков спешился. Конь легонько подтолкнул его мордой, как бы в недоумении, князь протянул назад руку и машинально погладил животное по вздрагивающей шее. Слепни кусались; гроза давила на них и делала злее.
Упали первые капли, и сразу вслед за ними Васильчиков услышал стук копыт. Он отошел к скале, прижался.
Всадник ехал не спеша, заранее свыкнувшись с мыслью о том, что придется промокнуть под неминуемым дождем. Князь шагнул ему навстречу и преградил дорогу.
Юрий остановил коня, приветливо склонился с седла:
— Александр Илларионович! Что это вы тут делаете?
— Гуляю, — ответил Васильчиков.
Лермонтов оглянулся назад:
— Гроза надвигается — какие прогулки?
— Пытаюсь закалить себя, — сказал Васильчиков. — Вот вы, армейские, недовольны тем, что на Кавказ присылают изнеженных «бонжуров» из Петербурга.
— Ну да, — задумчиво протянул Юрий. — Толку от вас чуть, а что вы болтаете потом по модным салонам! Полагаю, о Кавказе вам известно не больше, чем парижскому привратнику — об Алжире. И за что только вам ордена здесь раздают!
— Отчасти ваши претензии справедливы, господин Лермонтов, — с важным видом произнес Васильчиков (Юрий комически-удивленно задрал брови и стал оглядываться по сторонам, как бы в поисках свидетелей подобного чуда). — Я и прибыл сюда, можно сказать, для того, чтобы на месте ознакомиться… и впоследствии, служа Отечеству при разработке более современного законодательства… имея опыт…
— По-моему, вы бредите, — сказал Юрий с деланной озабоченностью. — У вас нет жара? Что говорит лекарь Барклай?
Васильчиков вдруг страшно побледнел и отступил на шаг. Разговоры иссякали, гроза была все ближе — время заканчивалось: пора. И не осталось никаких преград между Васильчиковым и тем, что ему предстояло сделать. И даже любопытству пришлось уступить — никогда князь не узнает, который из двоих был ублюдком… Все.
Князь закусил губу, широко распахнул глаза — и, в самой глубине души твердо веруя в то, что совершает это не он, а некто иной, незнакомый, почти в упор выстрелил в Юрия из «кухенройтера», взятого у Столыпина под тем предлогом, что пистолеты должны находиться у секунданта.
Юрий не изменился в лице, не издал ни звука; он безмолвно свалился с седла и в некрасивой, неловкой позе замер на обочине дороги. Князь подошел к белому коню. Хорош. У Лермонтова всегда была слабость к лошадям — не жалел на них денег и вечно, говорят, выклянчивал у безотказной бабушки на очередного скакуна.
Возбужденный и испуганный, конь тем не менее оставался на месте — его так приучили. Васильчиков хлопнул животное по крупу:
— Уходи! Уходи, глупая скотина!
Конь заржал, отступил на несколько шагов и снова остановился. Васильчиков еще раз пальнул, тогда конь скрылся. И почти тотчас над горами разлетелся первый уверенный раскат грома.
Васильчиков очень деловито осмотрел убитого, который больше не был Лермонтовым. Все та же красная канаусовая рубаха, ужасно грязная, все тот же сюртук без эполет. Никто, ничто. Просто груда тряпья.
— Черт бы тебя побрал! — сказал Васильчиков.
Он сел в седло и погнал коня прочь, к подножию Машука, где уже собрались, по его расчету, участники дуэли.
* * *— Может, отложим? — предложил Глебов. — Гроза начинается. Во время дождя стрелять глупо.
— Опоздаем к балу, — возразил Мартынов нервно и оглянулся, не едет ли наконец князь.
— Да и Васильчикова пока нет, — продолжал Глебов.
— Скоро будет, — сказал Мартынов. — Мы с ним договорились так — если он задержится, то встретимся на месте.
Монго молчал.
Мишель слушал эти разговоры с полной беспечностью. Происходящее выглядело до невозможности глупо. Позавчерашняя вспышка Мартынова, торжественный вызов на поединок, хождения взад-вперед секундантов… Впрочем, нужно ведь как-то развлекаться! Отчего не делать многозначительное лицо, пугая Эмилию Александровну недомолвками? Эмилия — ужасно хорошенькая, когда пугается и вспыхивает.
Голоса участников дуэли доносились до Мишеля сквозь разные рассеянные раздумья. Он как будто плыл сквозь перепутанные мысли: предстоящий набег на Голицына с его балом, Эмили («в пыли», «кобели»), розовая Надежда, мадемуазель Голубые Глаза, а также интересные девицы, коих Мишель всех скопом именовал «лягушками в обмороке»… И скорый приезд Юрия!
Наконец он очнулся, тряхнул головой и вступил в общий разговор:
— Правда, давайте закончим до грозы. Пальнем с Мартышкой друг в друга, а после — шампанского с хлопушкой и на бал к Голицыну, стращать старых куриц!
Он весело огляделся по сторонам, но, не встретив ни одной улыбки, опять немного скис.
Наконец донесся долгожданный стук копыт; Васильчиков вылетел из-за поворота дороги. Мартынов пытался поймать его взгляд, но не сумел; Васильчиков держался отстраненно, как будто не желая вообще участвовать в этих и следующих нескольких часах своей жизни.
Место на тропинке было уже выбрано. Глебов отсчитал шаги. Ничего особенного. Очередная диспозиция. Здесь стоять, тут стрелять. Ничего нового.
Князь Александр Илларионович благоговейно держал столыпинские пистолеты в ящике. Монго глянул на Васильчикова чуть растерянно: он не вполне понимал, куда отлучался князь и почему прибыл на место поединка как будто с прогулки… Впрочем, вряд ли это имело отношение к делу.
Васильчиков подал пистолеты Глебову, чтобы тот зарядил; затем Монго проверил, хорошо ли заряжено. Вручили оружие дуэлянтам.
Мишель в белой рубашке, тонкой, как детское платьице, дергающейся на крепчающем ветру, растерянно взял пистолет, взвесил на руке. Ужасно маленький — под огромным грозовым небом, в окружении гигантских гор. Поднял на Монго глаза, совершенно такие же, как у Юрия.
— Неужели я буду в него стрелять? — тихо проговорил Мишель. — Все это была только шутка — я готов, пожалуй, извиниться…
И перевел взгляд на Николая.
Тот скинул черкеску и стоял, чуть набычась и уверенно расставив ноги, точно скала, не имеющая никакого намерения падать. Даже сейчас Николай показался Мишелю забавным: глаз художника улавливал неестественность позы, привычно утрировал ее, вписывал в чрезмерно-романтическое окружение: наползающая из-за гор черная туча, нависающие скалы, кладбище неподалеку от места будущего поединка… Мишель чуть улыбнулся, почти дружески глядя на своего противника.
Глебов больше не был прежним, сердечным и простым «Мишкой». Теперь он сделался командиром, коего надлежало слушаться беспрекословно.
Уверенно и спокойно распоряжался, отсчитывал шаги, расставлял дуэлистов, делал указания; ему подчинялись. Должно быть, так же деловито он и воюет; с годами этот неприметный офицерик покроется морщинками, женится на неприметной женщинке — и только по ослепительной красоте его дочерей можно будет догадываться о том, как хорош собой был он когда-то…
Мишель тряхнул головой. Сплошной Шекспир. Сочинительство в уме пьес когда-нибудь его погубит.
Глебов вежливо, но отчужденно коснулся его локтя.
— Сюда, Михаил Юрьевич, прошу вас.
Мишель послушно встал у барьера. Глебов развел их с Мартыновым по крайний след отсчитанных шагов; затем сказал:
— По моему сигналу — сходиться. Стрелять — кто когда захочет, без очередности, можно — стоя на месте, можно — подходя к барьеру.
Гроза снова рокотнула, но дождя всерьез еще не начиналось; несколько больших теплых капель упало и тотчас впиталось в пыль.
— Сходитесь! — крикнул Глебов.
Мишель быстро подошел первый к барьеру и остановился, повернувшись к противнику боком и закрываясь пистолетом. Мартынов последовал его примеру — широким размашистым шагом приблизился к отметке, не поднимая пистолета, а затем прицелился.
Мишель ждал, становясь все более растерянным. Монго смотрел на него во все глаза: с каждым мгновением лицо Мишеля делалось все более чужим, все менее знакомым; сквозь родные черты проступали, точно проявлялись сквозь тонкую бумагу, совершенно другие, никогда не виданные. Мишель Лермонтов был сейчас не просто некрасив — он выглядел отталкивающе: с широко раскрытыми темными глазами, с подрагивающей мокроватой нижней губой, с щегольскими блестящими усиками. Пегие волосы с белым клоком надо лбом слиплись от пота — перед грозой было душно. Поэт, мечтатель, шотландский бард, свихнувшийся от столетнего сидения в полых холмах, — что угодно, только не лихой Юрка. В это мгновение Монго не понимал, как возможно было перепутать обоих братьев. Насколько хорош был один, настолько дурен другой — злобный карла, по ошибке природы наделенный поэтическим даром.
И, чтобы оторвать взгляд от этой жуткой картины, Столыпин глянул на Васильчикова. Князь, высокий и тонкий, стоял немного в стороне, устало надломившись в пояснице. Ждал, настороженный. Затем чуть заметно вздохнул — как переводит дух человек, исполнивший свою часть тяжелой работы в ожидании, пока другие докончат остальное.