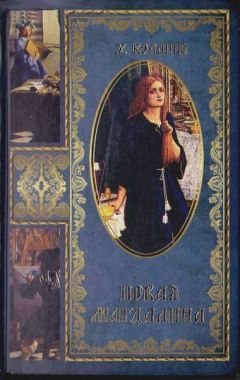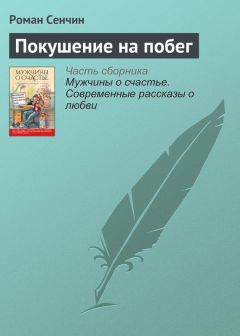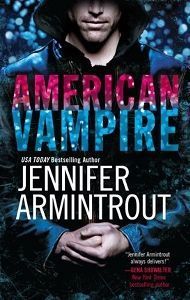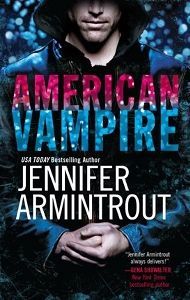Магдалина Дальцева - Так затихает Везувий: Повесть о Кондратии Рылееве
— Да. Один — сенатор Мордвинов. Зато духовные лица, коим не пристало присуждать к убийству, нашли дипломатическую форму: «Согласны с председателем». А председатель Лопухин голосовал за четвертование.
Вяземский был бледен какой-то чесночной бледностью, так не присталой к его курносому, простонародному лицу, и все время ходил по комнате, не присаживаясь. Он снова заговорил, и теперь уж говорил без остановки, как бы не в силах удержать в себе поток мыслей.
Он говорил, что казнь и наказания несоразмерны преступлениям. Быть может, некоторые из приговоренных и помышляли о цареубийстве, но никто, однако, не совершил его. Только сама совесть или всезрящее провидение могут наказывать за преступные мысли. Людскому правосудию не должны быть доступны тайны сердца. Правительство должно обеспечить государственную безопасность от подобных покушений, но права его не идут далее. Я защищаю жизнь от убийцы, уже поднявшего на меня нож, но, защищая ее, отнимаю жизнь у самого противника, спеша обеспечить свою жизнь от опасности только возникшей, и лишаю жизни его самого. Выходит, что убийца я, а не он. Правительство вправе очистить общество от врагов его устройства, хотя бы временно, но не более. На это есть обширная Сибирь…
— Да ведь можно их было отправить и за границу, — прервал Ригель его плавную речь. — Там этими планами никого не испугаешь. Привыкли.
— Но если эта казнь для устрашения других, — продолжал Вяземский, — то она не только несправедлива, но и бесплодна. Преступнику уголовному она страшна и позорна. А государственному преступнику она представляется в полном блеске апофеоза мученичества. Страх не останавливает злодея, движимого местью, ненавистью или корыстью. Так может ли он остановить фанатика, в самой основе своей человека исступленного и бескорыстного?
— Вы хотите сказать, что первые застрельщики всяческих революций бывают и первыми ее жертвами? Но опыт и рассудок их не останавливают? — спросил я.
— Вот именно. И потому их казнь бесплодна. Она не устрашит их последователей, таких же одержимых безумцев. Они живут в твердом и добросовестном убеждении, что делают должное. И личное благополучие затмевается тем, что они борются за истину и справедливость.
Слушая все эти верные и сочувственные рассуждения, я подумал о том, как, по сути, холодны мы, как легко предаемся отвлеченностям и заманчивым ходам логики, в то время как живые люди стоят на пороге смерти.
И, будто откликнувшись на мои мысли, Вяземский сказал:
— Не могу себе представить Рылеева с петлей на шее!
— Будь они прокляты, эти венценосные убийцы — в опричники их! — вырвалось у меня.
Сказал и испугался. Ведь если за умыслы на каторгу, то что же за слова?
30. ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
Он лежал ничком, уткнувшись лицом в жесткую подушку, стараясь успокоить разбушевавшийся стук сердца.
Приговор раньше смерти придавил могильной плитой. Впрочем, могильной плиты не будет. Будет холмик, поросший бурьяном.
Если бы только не думать… Но мысли набегали и не могли остановиться.
Сколько же было говорено о гибели, о кончине, о жертвах, коими будет искуплена свобода, какие мольбы еще совсем недавно возносились к богу, чтобы он разрешил от бремени жизни. А в глубине души тлела надежда. Жизнь! Любая жизнь в рудниках Сибири, а якутских снегах, адская, непереносимая жизнь, в которой можно как-то действовать, преодолевать, бороться…
Он всегда страшился конца. Любого конца, все равно — плохого или хорошего. Конца постылой военной службы, конца церковной обедни, плохой пьесы на театре и завершения собственной поэмы, любой конец неизменно вызывал чувство пустоты и разочарования, а не облегчения и радости.
Конец — пустота. Черная бездна. Все должно быть в движении, в бесконечном движении, и смерть не конец, а только переход в другую жизнь. Чтоб перейти к ней, нужна опора. Вера?
Ах, чем были заняты мысли в этом каземате! Когда сломался? Кто виноват? Кто предал? Все это было и как водой унесло. Конец. Но ведь этого быть не может!
Сердце не утихало. Он встал, прошелся по камере. По диагонали. Так кажется длиннее путь. В углу валялся желтый, засохший, скрученный кленовый лист. Ненаписанное письмо к Оболенскому. Он поднял, повертел в пальцах, и листочек рассыпался в прах. И ты так же? Да этого не может быть! Душа бессмертна! Он верует. Он клятвенно подтвердит, убедит всех, заставит, принудит всех верить вместе с ним. Он спокоен и силен. И завещает верить вместе с ним!
Он побежал к столу, схватил перо. Пусть и Наташа знает.
«Бог и государь решили участь мою: я должен умереть, и умереть смертию позорною. Да будет его святая воля!..»
Он писал, почти не отдавая себе отчета в том, о чем пишет, лишь стараясь успокоить Наташу, поддержать ее, придумать для нее опору, смысл жизни. Он то присаживался к столу, то метался по камере. И опять присаживался за стол. Он успокоился только тогда, когда снова на него нахлынули земные заботы, мысли о воспитании дочери.
«Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправься к почтеннейшей матушке. Проси ее, чтобы она простила меня; равно всех родных своих проси о том же. Катерине Ивановне и детям ее кланяйся и скажи, чтобы они не роптали на меня за Михаила Петровича: не я его вовлек в общую беду: он сам это засвидетельствует. Я хотел было просить свидания с тобою; но раздумал, чтоб не расстроить себя. Молю за тебя и Настиньку, и за бедную сестру бога, и буду всю ночь молиться. С рассветом будет у меня священник, мой друг и благодетель, и опять причастит. Настиньку благословляю мысленно нерукотворным образом спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого бога. Прошу тебя, более всего заботься о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе. Старайся перелить в нее свои христианские чувства — и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то осчастливит и его, как ты, мой милый, мой добрый и неоцененный друг, осчастливила меня в продолжении восьми лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами: они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Почтеннейшей Прасковье Васильевне моя душевная, искренняя, предсмертная благодарность. Прощай! Велят одеваться. Да будет его святая воля.
Твой истинный друг К. Рылеев».
И по мере того, как он писал письмо, в котором собирался клятвенно подтвердить свою веру перед богом и людьми, мысли его о смерти и боге, хоть он и упоминал его в каждой строчке, низвергались с заоблачных, непостижимых высот.
Он возвращался на землю, к людям. Если не дано было совершить деяние на благо отечества, хотя бы подумать о близких. Ведь он за все в ответе. Все земное, житейское возникало перед ним — надо, чтобы Настинька воспитывалась при матери, а не в каких-то там пансионах, институтах, надо просить прощения у тещи за то, что он не смог сделать ее дочь счастливой, не забыть, чтоб отдали золотую табакерку Мысловскому, который поддерживал его в эти тяжкие месяцы, объяснить Екатерине Ивановне Малютиной, что не он вовлек ее сына Мишу в тайное общество. Надо поблагодарить Прасковью Васильевну, друга Наташи, за то, что не оставляла ее все это время.
Пиша об этом, он самозабвенно погружался во все житейское, будничное и так избывал тоску предсмертного одиночества. Сердце как будто утихло.
Он встал, отошел от стола, глубоко вздохнул всей грудью. Сердце билось ровно. Кажется, ничего не забыто. Ах, да…
Он вернулся к столу и быстро приписал:
«У меня осталось здесь 530 р. Может быть, отдадут тебе».
Теперь все. Можно одеваться.
31. ИЗ ДНЕВНИКА ПОРУЧИКА ВАЛЕЖНИКОВА
Делаю последнюю запись в моей потаенной тетради, и я прощаюсь с ней.
Вчера под вечер ко мне явился Ригель вместе с квартальным — здоровенным, рыжеусым малым в полной амуниции и сказал:
— Знакомьтесь. Находка. Лучшего рассказчика ты, тайный летописец, не найдешь. Он видел все. Присутствовал при казни до последней минуты. Садись и записывай. Чай и горячительные напитки потом.
И я, как завороженный, достал тетрадь и чернильницу, хотя могу сознаться, что появление этого должностного лица у меня в доме не обрадовало. Во мне боролись два чувства: страх (говорят, что в городе идут повальные обыски) и азарт летописца, как назвал меня Ригель. Азарт запечатлевать все события и подробности нашего времени. Азарт или привычка, подобная привычке пьяницы к спиртному, который не в силах отказаться при виде чарки.
Квартальный оказался чрезвычайно словоохотлив и многословен, и вот что он рассказал:
— Получил я предписание явиться к Княжнину. Он, как вы знаете, обер-полицеймейстер. Бедовый — палец в рот не клади, смотри не зазевайся. Ну, думаю — все. Попался. А сам не знаю, в чем виноват. Прихожу к нему, а там еще четверо квартальных. Все знакомые. Выходит сам — нас так и обдало. Со страху одурели. А он говорит: «Я вас из всех выбрал. Помните это, как я вас считаю исправными, скромными и дельными, какими должны быть настоящие полицейские офицеры. Отправляйтесь к Подушкину, плац-майору, в крепость и поступайте в его полное распоряжение».