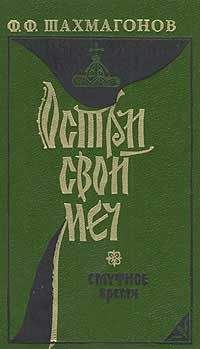Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
И вновь Шувалов добился того, чтобы русская труппа получила дополнительные возможности для своих постановок. Ей дозволено было играть везде, где была сцена: в новом театре в Зимнем деревянном дворце, при дворе в комнатном театре, в том же оперном театре, когда он свободен. Играли и для людей всякого звания, и для знатных смотрельщиков, за деньги и бесплатно. Ставили на русском языке, кроме трагедий Сумарокова, ещё Мольера и Руссо, Гольберга и Данкура, Корнеля и Легрена, Детуша и Вольтера.
Только Сумароков не успокаивался, по-прежнему слал Шувалову жалобы: «Подумайте, милостивый государь, сколько теперь ещё дела: нанимать музыкантов, покупать и разливать воск в плошки, делать публикации в афишах и газете, делать репетиции... Все говорят, что русский театр партикулярный; ежели партикулярный, так лутче ничего не представлять. Мне в етом, милостивый государь, нужды нет никакой, и лутче всего разрушить театр, а меня отпустить куда-нибудь на воеводство или посадить в какую коллегию... В таких обстоятельствах, в каких я теперь, получить хороших мыслей никак неудобно, чтобы творить...»
Только Фёдор Волков думал и жил по-другому. Он сам рисовал эскизы костюмов. Кроил их и шил вместе с другими актёрами, писал декорации, заменял не раз на сцене машиниста. И любил повторять слова преподобного Франциска Ланга: «Просты и грубы те, кои не умеют ни гвоздя вбить в стенку, ни брус распилить».
Он, актёр, не хотел того, к чему стремился в своих помыслах Сумароков: превратить вседоступный театр в придворный, чтобы в конце концов угождать лишь изнеженным и избалованным вкусам знати. Потому он брал всё на себя — даже репетиции и занятия с артистами. А те, кто разделял его устремления — Иван Дмитревский, брат Григорий, Алёша Попов, Шумский Яша, — были рядом.
Однажды Сумароков явился в залу Головкинского дома, когда Фёдор Волков с товарищами репетировали Мольера. Сел в темноте в заднем ряду. Был зол: дома поругался с Иоганной, чуть не пришиб камердинера.
Александр Петрович мрачно обвёл глазами сцену, понял: это репетируют не его, а Мольера, и, встав, быстрым шагом направился к выходу.
— Куда вы, Александр Петрович? — окликнул его Фёдор.
Сумароков остановился и, обернувшись к актёрам, отстегнул с пояса свою шпагу.
— Я вижу, — он насупил брови, — что вы можете обойтись и без меня, своего наставника. Посему прошу принять мою отставку.
— Позвольте, — возразил ему Волков, стараясь всё свести к шутке, — здесь же не Сенат — кому отдавать шпагу?
Лицо Александра Петровича побагровело, руки затряслись.
— В возрасте я уже, чтобы надо мною и здесь и там, — он показал шпагою верх, на потолок, — измывались. А вам, много чего уже умеющим, я не нянька. Я — первый на Руси стихотворец... Впрочем, чего это я перед вами бисер мечу? Небось каждый из вас в душе полагает, что и сам вскоре трагедии начнёт сочинять. Поглядим!
«О вы, которых ожидает Отечество!..»
— Ур-ра! Мы едем в Петербург! — Бухнув дверью, Денис, а за ним и брат его Павел ворвались в дом как оглашённые. — Нас везут туда уже на той неделе!
— В Петербург — и уже на той неделе? — Охнула старая няня, когда отроки, взяв её за руки, завертели, словно в каком танце. — Да что ж это такое деется? Хоть бы папенька ваш утром мне что сказал: какие вещи укладывать, как всех в дорогу собирать. Шутка ли — всем домом враз подняться да и тронуться трактом в столицу. Побегу наверх к вашей маменьке. Может, она даст мне какой приказ.
— Да постой ты, нянюшка. — На широком, толстогубом лице Дениса озорно блестели карие, в щёлочку, глаза. — Это нас с Павлом посылают двоих, а родители остаются в Москве. Теперь-то тебе понятно, отчего такая у нас радость?
Старая няня с недоумением уставилась на двух отроков-погодков и перекрестилась:
— Да разве можно меня так пужать? При ваших первых же словах меня ажно в жар какой бросило: ни я, ни дворня не управится со сборами, коли весь дом поднимется так поспешно!.. А кто ж вас, таких малых, одних в Петербург повезёт и за какой такой надобностью?
— Иван Иванович Мелиссино, директор нашего университета, решил нас среди других самых лучших учеников представить куратору, а может, даже и самой императрице, — хором высказались братья.
Концом головного платка нянюшка смахнула с глаз слезинки:
— Надо же, за то, что вы по-книжному разумеете, — вас пред самые очи государыни! А я-то век прожила и ничего в книжках не смыслю. Да что там книжки! Вот с вами, отроками, говорю иной раз, а больше половины речей ваших не разумею. Да я что — я уж, считайте, век свой прожила и без книжек. Их ведь, прежде чем читать, ещё купить надобно было. А где мне в малые мои лета денег было взять? Тятя с матушкою так и говорили: купят иные даже баре какую умную книжку, а выучатся ли по ней, один Бог знает. А деньги уже вложены. Нет, мне Господь другую уготовил судьбу — к вам, вашему батюшке Ивану Андреевичу, меня с двенадцати, считай, годков пристроили добрые люди. На два годка тебя, Денис, теперешнего аккурат я была помладше и натри — твоих, Павел, годков. А теперь мне пошёл уже седьмой десяток. И, слава Богу, без грамоты много добра вам содеяла. Да люди, слышала сама не раз, говорят: нынче другой век, и особенно вам, барам, без грамоты ни в какую службу не вступить...
Не успели братья Фонвизины оглянуться, как пролетели сборы, провожания и прощания, и вот они в числе четырнадцати гимназистов Московского университета зимней накатанною дорогою мчат в Петербург.
Ах, как весело пуститься в поездку одним, без строгого надзора батюшки, не говоря уже о матушкином пристальном радении! Бывало, и в подмосковную поездка с таким строгим надзором, что приходилось прибегать к различным уловкам, чтобы оказаться в деревне одним, побегать с местными ребятишками по таким местам, куда с родителями никогда бы не попали.
Впрочем, кроме подмосковной, в летние месяцы братья Фонвизины никуда более и не ездили. Не то что, скажем, Григорий Потёмкин. Он, правда, на два года постарше Дениса. Но уже годков так с пяти был привезён к дяде в Москву из-под Смоленска и после не раз ездил туда, к матушке, а от неё — опять назад, в белокаменную.
Вот и теперь он сидит в возке рядом с другими, выказывая своё бесспорное превосходство бывалого человека.
— Счас будет остановка, — говорит он. — Станем менять лошадей. Я по верстовым столбам определил, сколь расстояния уже проехали.
— Ух ты! — восхищённо произнёс Борис Салтыков, тоже из старших учеников. — Ты, Гриш, обязательно мне расскажи, как это следует — определять расстояния.
— А ты книжку такую возьми, где версты от города до города указаны. И выучи всю ту цифирь, — ответил Потёмкин под дружный смех гимназистов.
— Во поддел! — загалдели весело. — Тут и науки никакой не надо — имей только память!
Только память, чтобы, к примеру, целую страницу с первого раза запомнить и повторить назубок, не каждому дана. Вот Денис Фонвизин. Он самые трудные латинские слова, а заодно и правила латинской грамматики запоминает прямо с ходу! Только посмотрит в книжку — и назубок!
— А ну-ка, Денис, скажи, какого спряжения будет глагол «веди»? — слышится чей-то вопрос.
— О, сие проще простого. — Увалень Денис чуть привстаёт с места и распахивает кафтан. — Милостивые государи! — говорит он уже чужим голосом. — Обратите внимание на мои пуговицы. Их на кафтане пять, а на камзоле четыре. Пять на кафтане означают пять склонений, а четыре камзоловых — четыре спряжения глагольных. Когда станут вас спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за какую пуговицу я возьмусь. Если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. Со спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете.
Ай да Денис, ай да лицедей! Это же он изобразил преподавателя латинского языка, коий, дабы заручиться отменной рекомендацией от начальства, изобрёл сей хитроумный способ обеспечить хорошие оценки всем ученикам.
Весёлый хохот сотрясает возок, когда поезд гимназистов подъезжает к почтовой станции. Иван Иванович Мелиссино быстрым военным шагом подходит к развеселившейся ватаге:
— Господа, что за шум? Уж не случилось ли чего?
— Всё в полном порядке, ваше благородие, — отвечает за всех Григорий Потёмкин. — Это Денис Фонвизин так нас рассмешил.
— Слава Богу! — подошла и жена директора. — А то у меня прямо-таки душа не на месте: не произошло ли чего? Я ведь теперь за вас, господа, в ответе перед вашими родителями, доверившими мне и господину директору попечение о ваших персонах.
И за столом в станционном помещении она — как хлопотливая и заботливая мать:
— Все выбрали себе довольно кушаний? Смотрите, дорога впереди предлинная, не проголодайтесь... Денис Фонвизин! А вы, на мой взгляд, позаботились о себе чересчур. Не много ли будет к супу пять пирожков?