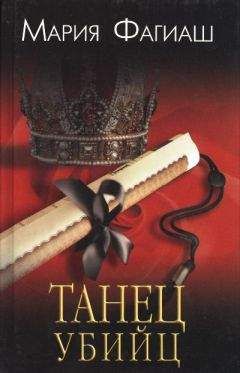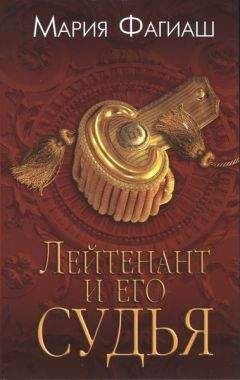Зинаида Чиркова - Проклятие визиря. Мария Кантемир
Толстой долго смотрел немного подслеповатыми стариковскими глазами в лицо Марии.
— А молодость уходит, — вдруг напомнил он, — заботы заботами, а твоя жизнь — это твоя судьба, а не судьба твоего отца или твоих братьев. Надобно немного подумать и о себе. Или не сватают? — сощурился он. — Так быть того не может, сама ты красавица, да и приданое небось отец выделил бы богатейшее...
— Ах, Пётр Андреич, — расчувствовалась и Мария, — сватается тут грузинский царевич, тоже из этих, которых русский царь приветил.
— И что же? — заинтересованно спросил Толстой.
— А условие поставил, чтобы язык его выучила, прежде чем к венцу пойду. Сам-то он не может никакого другого постичь, кроме своего грузинского.
— И что ж ты? — опять спросил Толстой.
— Да отказала я ему. Что это ещё за условие, если ты такой тупица, что даже не можешь русского осилить, живя в России! Как же с тобой жить? Осёл ослом, — закончила она.
— А быть может, человек хороший, — сожалеючи отозвался Толстой.
Мария только передёрнула плечами.
— Ну, тебе жить, тебе и судить, — заключил старик и позвал слугу, чтобы помогли ему переодеться ко сну.
Мария ушла к себе, наконец-то обретя свой драгоценный подарок, и полночи, сидя у открытого в сад окна, всё вертела и вертела перед глазами эти удивительные фигурки из слоновой кости.
Они напомнили ей о далёком детстве, когда такой же вот драгоценный подарок Толстого — прелестную куклу из слоновой кости — изломали турецкие девчонки.
И она сказала себе, что уж этот подарок будет хранить до самой своей смерти и никому не позволит надругаться над его красотой...
Ярко светила луна, и в этом неверном перламутровом свете тускло светились шахматные фигуры, и Мария тайком прижимала их к губам, целовала и чувствовала, что как будто целует намозоленные грубые и тяжёлые руки Петра.
Её вдруг словно бы окатывало холодной волной: зачем так много думает она о самом могущественном из владетелей мира, почему не выходят из её памяти его руки, выпуклые яростные глаза, его усы над короткой верхней губой и нежный, беспомощный округлый подбородок?
«Не бывает так, — тогда думала она, — чтобы повелитель обращал внимание на самую последнюю из своих подданных, на изгнанницу, пусть даже она и императорского рода...»
И снова ревность и зависть сжигали её: как эта грубая, неуклюжая женщина могла покорить сердце такого рыцаря, как могла она приковать его к себе такими тяжёлыми цепями, что он даже женился на ней?
Она была не в состоянии постичь это, понять, как не видит он в Екатерине всех знаков её низкого происхождения, и горько думала, что ей, Марии, не дано, видимо, покорить сердце и разум мужчины, стоящего высоко и далеко...
Ранним утром, едва восток слегка покрылся розоватой дымкой, у крыльца уже стояла карета Толстого.
Он распрощался с гостеприимным домом Кантемиров, кинул лукавый взгляд на Марию, вышедшую на крыльцо в утреннем белом платье и плоёном чепчике, и умчался на своих вороных.
Долго с грустью смотрел ему вслед Кантемир: как-то не сошёлся он близко с московской знатью, и не было у него тут друзей и родных, и вот один только близкий друг, крестный отец Марии, побывал, посветил, как красное солнышко, и вот уже опять его нет, и на смену интересным разговорам и радости встречи пришли опять повседневные дела, будничные и однообразные заботы...
А Толстой встретил на дороге из Петербурга в Москву запылённую тройку Петра — царь ехал в Москву раньше, чем предполагал.
Он пригласил Толстого в свою кибитку без всяких знаков царского достоинства и принялся выспрашивать, зачем тот ездил в Москву, кого видел, с кем долго разговаривал.
— Скучает князь Кантемир, — сказал Толстой о своём посещении этого дома, — пишет, пишет, многие уж книги написал, а глаза скучные, совсем затосковал...
— Не дадим скучать сему учёному мужу, — весело откликнулся Пётр, — он нам зело пригодится...
— Супруга его преставилась, дочка вслед ушла, осталась из женского пола одна Мария — старшая, на неё и взвалил князь все заботы по имениям и по дому — управляется, и ах, хороша девка, — прищёлкнул Толстой языком. — Язык что бритва, с любым умеет говорить, да так, что опасаться приходится, как бы не обрезала...
Пётр покосился на Толстого.
— Уж не присмотрел ли ты её себе? — ядовито заметил он.
— Да что ж мне делать с молодой-то женой! — захохотал Толстой. — Годочки мои уже не те, что у Шереметева, ему-то всего шестьдесят было, когда он вновь оженился, а мне уже за семьдесят, того и гляди сойду в могилу...
— Ты мне нужен, и потому не сметь даже заводить такие разговоры.
Пётр призадумался.
— А княжне мы поможем, — вдруг весело сказал он, — присмотрим для князя деваху хорошую — вот и станет она хозяйкой вместо княжны. А Марию замуж выдадим...
Он расхохотался, довольный, что может осчастливить таким исходом и самого Кантемира, и его дочь, которую всё ещё помнил голенастой угловатой одиннадцатилетней девчонкой, хорошо игравшей в шахматы.
— И в Сенат введу князя, — задумчиво сказал Пётр, — умные люди мне сильно важны.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Тысячами огоньков расцветилась полутёмная, мрачная внутренность Архангельского собора. Огромные паникадила, спускающиеся с высокого сводчатого потолка, мерцали и горели, отражаясь в ликах иконостаса, бросая неверные отсветы на тёмные иконы по всем стенам церкви.
И среди этого невероятного блеска и сияния свечей тихо и задумчиво смотрели на людей, собравшихся в соборе, старинные тёмные, благообразные лица святых. Особенно печальным казался образ распятого на кресте Иисуса, словно бы он жалел всё несчастное человечество, занятое своими странными играми.
Мария стояла вместе с отцом где-то с края толпы, собравшейся возле Петра. Раззолоченные кафтаны и шитые серебром камзолы заслоняли от неё его высокую фигуру, но голова его, непокрытая, обрамленная тёмными локонами, всё-таки возвышалась над толпой, и со всех мест, даже самых дальних, видна была эта царская голова.
Священники, одетые в богатые, тоже раззолоченные ризы, накрытые белыми и золотыми клобуками, стоящие с витыми двойными свечами, вставленными в золотые подсвечники, такими громкими голосами возглашали хвалу Богу за чудесное спасение царского рода и русского воинства от напасти, что стены, толстые, многовековые, не могли приглушить это радостное песнопение.
Истово молились все, кто был рядом с Петром, крестились и клали земные поклоны, то вставали на колени, то приподнимались и снова и снова благодарили Бога, славили его, призывали его благодать на свои послушные головы.
Мария молилась по-своему, по-гречески, слова русского, старославянского языка были ей известны, но приходили на память свои, родные, с детства знакомые. Она слегка подпевала в такт голосам громогласных диаконов, вся была во власти этого стремления к небу и Богу и не видела ничего, кроме золочёного иконостаса, резной решётки ажурных царских врат и склонённой, повёрнутой к ней затылком головы Петра.
Одной рукой она слегка опиралась на старинный саркофаг, на котором старославянской вязью выведено было чьё-то имя — одного из царей, прошлое которого было таким далёким и туманным, что уж плохо помнили о нём и сами русские, потомки этого правителя — где уж было знать о нём Марии.
Но она смутно понимала, что под её рукой лежат захороненные останки и боялась прикоснуться к большому и высокому ящику, содержащему мощи далёкого предка русских.
Вся толпа теснилась между этими высокими саркофагами, расставленными вдоль стен собора, кое-где огороженными узорными решётками, а кое-где оставленными без заборчиков, и золочёные кафтаны, и широкие кринолины придворных дам то и дело оставляли на этих гробах свои следы, незаметные для глаза, но ощутимые в душе.
Мария слушала благодарственный молебен с тем трепетом и волнением в сердце, с каким всегда приходила в храмы, — она была набожна и со всей силой своего чувства верила в Провидение, в судьбу, предначертанную Богом, просила у него прощения за будущие свои грехи и маленькие настоящие, просила быть к ней милостивым и добрым.
И всё-таки, посреди трепетного волнения и умиления, успевала она одним глазком следить за волнистыми кудрями своего кумира — русского царя.
Как же красивы были завитки волос на его плечах, как же жалостливо подрагивала его круглая голова, и это подрагивание, и эти локоны на плечах вызывали в ней неведомую ей самой дрожь, такое странное волнение...
Мария не видела Петра с тех самых пор, как высоко к небу поднял он её на своих мощных руках, как расцеловал в порыве восторга.
Она всё время помнила эту маленькую картинку из своего детства, хоть ей и казалось, что это было так давно, что и не стоило бы помнить.