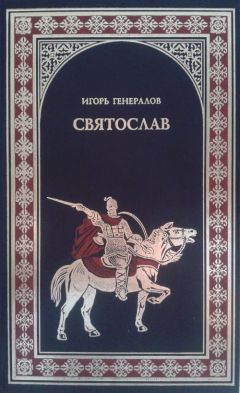Юрий Лиманов - Святослав. Великий князь киевский
Так ничего и не решив, Ягуба пошёл дальним, кружным переходом к светёлке Святослава, где он после смерти жены спал в одиночестве.
Ему встретилась дородная, дебелая кормилица. Она сладко улыбалась и вся колыхалась, как сдобное тесто. Могучая грудь распирала холщовую рубашку, и дух шёл от неё густой, женский, соблазный. В переходе было тесно. Проходя мимо, озорная баба притиснула его телесами к стене. Он сказал ей, словно коню:
— Но, но, балуй! — Однако же ущипнул за податливый бок. — Проснулся великий князь?
— Спит ещё, — пропела тягуче кормилица, не отстраняясь.
Ягуба вгляделся, припоминая. Кормилица была новенькой, взятой из ближней деревеньки, вдовой. Муж погиб, оставив её с тремя детьми и на сносях. Теперь она кормила сразу двух правнуков чадолюбивого великого князя. Была расторопной, опрятной, заботливой и явно искала покровительства при дворе, страшась вдовьей доли и того, что, выкормив княжат, придётся ей возвращаться в деревеньку, к голодной жизни, из которой уж ни ей, ни детям её не будет выхода...
Ягуба, так и не женившийся, иногда всё ещё поглядывал на жёнок. Сегодня ему было не до них.
Он шлёпнул её пониже спины и пошёл дальше. Кормилица вздохнула, поплыла по переходу в сторону светёлок...
Во внутреннем дворе ключница следила, как холопки кормят гусей и индеек. Чуть поодаль отроки выводили из конюшни коней на выгул. Ягуба поглядел, ни слова не сказал, к удивлению ключницы, и пошёл на второй, бронный двор. Здесь рубились на мечах два молодых дружинника, а третий, кряжистый, с сивой бородой и внушительной плешью, следил за ними и что-то говорил. Ягуба остановился, стал наблюдать. Сил у молодых парней было много, но умения ещё маловато, они прыгали, ухали при каждом ударе, ловили удары противника на щит с излишним усердием, если не сказать — с опаской. Старый дружинник, очевидно, видел всё это не хуже Ягубы, потому что вдруг отстранил одного из молодых, встал на его место, не надевая шлема, кивнул второму. Тот нанёс удар, старый воин чуть шевельнул щитом, и меч скользнул в сторону и вниз. Увлекаемый силой удара, парень покачнулся, и старик тут же плашмя ударил его мечом по плечу.
«В бою такой удар — смерть», — отметил Ягуба про себя одобрительно. Старого воина он хорошо знал, тот был всего лет на пять моложе, они бились радом во многих схватках. «Пожалуй, — подумал Ягуба, — сейчас я против него уже не выстоял бы». Захотелось пройти туда, на бронный двор, поиграть мечом, как в молодости, показать сноровку, умение, себя потешить. Но мысль о предстоящем разговоре с великим князем не давала ему покоя.
Ягуба поднялся к светёлке Святослава. Поскрёбся в дверь.
— Входи, Ягуба, — услышал он хриплый со сна, низкий голос великого князя.
Ягуба вошёл, притворив за собой дверь, отвесил быстрый поклон. Святослав сидел на ложе у высокого ларя с книгой и оплывшей свечой. Видно, опять ночью читал Псалтирь. Он был в простых, белёного полотна портах и рубахе, поверх которой накинул заячью душегрейку, в меховых разношенных босовиках.
— Знобит меня что-то, — сказал он вместо приветствия.
Ягуба вышел из светёлки и сразу же вернулся, неся кружку парного молока и ломоть свежего тёплого хлеба, молча поставил перед стариком.
Святослав понюхал хлеб, отломил корочку, пожевал, запил молоком, ещё раз втянул в себя большими ноздрями пряный, сытный запах утреннего хлеба, отложил в сторону.
— Закрой-ка Псалтирь, — приказал боярину.
Тот повиновался.
— Теперь открой, где получится.
Ягуба привычно отвернулся, подчёркнуто не глядя на книгу, раскрыл, ткнул пальцем в строку.
— Читай, — приказал князь.
— «И ликовали после этого с музыкой и веселием семь дней...» — прочитал Ягуба.
— Ликовали? Хм... А после чего ликовали-то?
Ягуба быстро нашёлся:
— После празднования твоего славного дня рождения! — сказал он и тут же испуганно подумал: «А почему будут ликовать после празднования, а не на самом праздновании, на пиру?» Но Святослав, к счастью, не заметил явной нелепицы в словах боярина.
— Не льсти, Ягуба, знаешь ведь — не люблю. Ликовать после моей смерти будут.
— Тебе ли о смерти думать, великий князь?
— Зябко... — сказал Святослав, кутаясь в душегрейку. — То от могилы близкой... На санях сижу[52]... Что в городе?
Вот уже который год после смерти княгини Марии этим вопросом начинались утренние беседы великого князя и ближнего боярина, беседы, во время которых решались многие городские и государственные дела, начинались интриги, намечались походы. Беседы, которые поставили Ягубу впереди многих бояр, подручных князей, даже сыновей Святослава.
— Всё спокойно в городе. — И это была как бы обязательная формула начала беседы — всё спокойно. — Вот только хан Кунтувдей остановился проездом со своими мужами, ввечеру бражничал, на язык невоздержан был.
— И что же наговорил?
— Дескать, ты великий князь, Киевский престол только из милости Рюрика Ростиславича всё ещё удерживаешь.
— Вот же погань некрещёная... Это мы ему припомним. Дельного чего сболтнул?
— Нынче у них, мол, урожай выдался сам-шест, и все Рюриковы волости будут с большими хлебами.
— Так, так... И к чему бы это?
— А к тому, что самый раз укоротить твою власть сейчас Рюрику.
— Хана взять — ив узилище! — Святослав сказал это, не повышая голоса и не изменив даже интонации.
— Осмелюсь напомнить, великий князь, хан — владетель тюркских родов, на Рюриковых землях сидит, ему верный пёс.
— Свои дела с Рюриком сам улажу. Больно силён он стал союзом с кунтувдеевскими родами.
Ягуба преувеличенно громко вздохнул.
— Что засопел, боярин? Полагаешь, круто?
Ягуба кивнул.
— Возможно... Да больно причина удобная: поношение государя на его же земле. Добрый случай соправителю моему Рюрику урок преподнести. Что ещё?
— Князь Игорь Святославич... — Ягуба остановился, по едва заметному движению князя уловил, что тот заинтересовался, и стал подбирать слова: — Князь Игорь дружинного своего певца, из плена вернувшегося, не принял.
— Вот как? — Святослав задумался.
В дверь постучали, и сразу же, не дожидаясь ответа, вошла мамка, за ней давешняя кормилица с ребёнком на руках. Это был утренний ритуал, заведённый Ягубой после смерти Марии, чтобы отвлечь Святослава от горестных мыслей о безвременно ушедшей жене. А правнуков хватало — многочисленные внуки исправно поставляли их...
Ягуба неслышно отошёл в сторону.
Мамка поклонилась в пояс, проворковала:
— Великий государь, твой правнук тебе доброго утра желает!
Святослав взял младенца, приподнял пелёнку с его личика, улыбнулся умильно, почмокал, сделал козу, покачал, спросил мамку:
— Это который?
Своих правнуков великий князь частенько путал, и вопрос мамку не удивил.
— Княжич Мстислав, государь. Видишь, глазёнки голубенькие, а реснички собольи, а бровки куньи. Мстислав, государь.
— Да, да... Мстислав. — Князь смешно почмокал, протянул пискляво: «Мстисла-ав, аушеньки», вернул мамке ребёнка. — Унеси.
Мамка передала ребёнка кормилице, поклонилась поясно, выплыла, за ней кормилица протиснула дородное тело в дверь, успев стрельнуть глазами в боярина.
«Настырна», — подумал Ягуба, но без раздражения, скорее даже как-то ласково.
— Открой-ка, — снова приказал князь, и Ягуба, без дальнейших слов поняв его приказ, захлопнул Псалтирь и тут же открыл, ткнул пальцем в нижнюю строку.
— Читай.
— «Так скоро понесли неправедную казнь говорившие в защиту города, народа и священных сосудов...»
Святослав сказал, кутаясь в душегрейку:
— Неправедная казнь... Дружинного певца прогнал... Ты сам-то прочитал повесть?
— Виноват, великий князь, руки не дошли, — ответил Ягуба, поражаясь, как Святослав даже из тёмных предсказаний Псалтири, во что Ягуба не верил и над чем втайне посмеивался, хотя и уважал в князе выдающиеся ум и всестороннюю образованность, умеет извлекать зерно истины.
— Не дошли, не дошли... Зачем поставлен?
— Говорят, великой силы творение.
— Вот именно, что великой. И славу поднимает.
— Игореву? — осторожно спросил Ягуба.
Оказывается, князь уже всё знал. Видимо, Борислав успел доложить. Быстро шагает в милостях княжич, не пора ли укоротить его? А может, и не Борислав — даже Ягуба не знал всех осведомителей старого лиса, великого князя, своего друга и благодетеля.
— При чём тут Игорь? «Говорят»... — передразнил князь. — Мне вот говорят, нашу славу поднимает. А что Игорь смел, так о том давно на Руси песни слагают. Да только к смелости ещё кое-что надобно... Вот думаю: не слишком ли высоко нашу славу поднимает повесть?