Юрий Слезкин - Брусилов
И Боже ты мой! Сколько заводится у нас в полку бумаг из-за этих писанных нравоучений! Все свое время мы — младшие начальники — проводим в переписке и настолько связаны указаниями сверху, что не смеем проявить ни своей инициативы, ни применить свой собственный боевой опыт…
Но ведь никакое взыскание не страшнее смерти. А ее мы видим каждый день. И войска, знающие бой на практике, подозрительно и враждебно выслушивают и нравоучения и угрозы. Войска ведают — не твердая воля старшего боевого товарища ведет их по суровому пути к победе, ради которой никакие лишения, трудности и жертвы не кажутся чрезмерными, а бездушное своеволие, измышления бесплодного ума чиновника, зачастую немца-чиновника, не принимавшего участия в боях. Да, утверждаю, как велит мне долг офицера и русского человека, — если суждено нам дойти до позора и бесславия, то виновны в том будут не войска, а чиновники в генеральских мундирах, сделавшие все, чтобы угасить священный дух нашей армии…»
XV
На этот раз Михаил Васильевич изменил своему правилу — при всех обстоятельствах, как бы они ни волновали его, оставаться наружно спокойным и не прекращать занятий до положенного часа. Письмо капитана Смолича вывело его из равновесия и даже заставило встать из-за стола. И не потому, что оно настолько поразило его своим содержанием, а потому, что явилось как бы разительным подтверждением основательности того нервического состояния беспокойства и страха, в каком он находился все это время. Человек дела, практик, Алексеев, несмотря на свою религиозность, был чужд каким бы то ни было мистическим предощущениям. Он привык любому своему душевному состоянию находить разумное объяснение. Письмо Игоря было таким неоспоримым фактом. Оно как бы подытоживало с беспощадной правдивостью то, что знал давно сам Алексеев, но что казалось ему еще скрытым от взоров людей непосвященных. Неосознанное недовольство можно пресечь решительным дисциплинарным воздействием, невроз можно утишить бромом. Но как бороться с недовольством, вызванным причиною, вполне осознанной, безошибочно найденной? Необходимо устранить самое причину. Никакой бром тут не поможет. Но что, кроме брома, может предложить несчастный врач в лице начальника штаба при «помазанном» верховном?
Капитан Смолич требует хирургического вмешательства. Он тысячу раз прав, но те, к кому он обратился за помощью, не только не хирурги, но в руках у них нет даже тупого кухонного ножа.
«Разве могу я гнать в шею Эверта или хотя бы Рагозу? Разве могу я втолковать им, что руководить войсками так, как они руководят, преступно? Разве даря убедишь в том, что он не верховный? Чтобы сместить явного преступника, у нас нужно поднести ему сперва благодарственный рескрипт, как это мы проделали с Ивановым! Легко сказать Брусилову: «За правду ручаюсь, беру все на свой ответ, а капитана Смолича себе в адъютанты». Ему легко, потому что он это сам все знает и у себя на фронте хозяин. А я?»
Алексеев размеренным шагом прошелся по кабинету. Он имел все основания сомневаться в том, что он хозяин даже здесь, у себя в комнате. Что мог бы он ответить этому смельчаку капитану, если бы тот явился к нему в сопровождении вооруженных солдат и потребовал бы отчет в исполнении предложенного ему ультиматума? Конечно, это письмо — ультиматум! Если его не выполнишь — гроза разразится. А выполнить его нельзя.
— Нельзя! — громко говорит Алексеев.
Он так ясно представил себе стоящего в дверях капитана с вооруженной стражей, что невольно покосился на двери. Может быть, это даже было бы избавлением — как Страшный Суд грешнику, бессильному бороться со своими грехами. И точно, Михаил Васильевич почувствовал, что страх, мучивший его все эти дни, отступил от него. Он в полосе огня. Солдат знает, что это такое: преступивший черту огня — страха не имеет.
И Алексеев садится за стол.
— Будем прописывать бром, — бормочет он себе в усы.
Перед ним вырезка из польской закордонной газеты «Nowa Reforma». С идиотской откровенностью там выбалтывают: «Причиной отставки Иванова явились неудачные попытки его прорвать австро-германское расположение на галицийском фронте. Генерал Иванов, правда, сам был противником наступления на этом фронте, так как считал, что его армии недостаточно к этому подготовлены… Генерал Иванов является сторонником заключения сепаратного, выгодного для России мира и считает, что продолжение войны не только не обещает России ничего хорошего, но грозит ей военным и экономическим крахом. Генерал Иванов в свое время представил в высшие сферы, как говорят, по этому поводу особую докладную записку. Таким образом, русская военная партия видит в генерале Иванове своего врага и охотно присоединилась к великому князю Николаю Николаевичу, чтобы общими усилиями свалить ненавистного им главнокомандующего».
Алексеев перечитывает эту заметку с горькой веселостью.
«Вот бы прочесть ее капитану Смоличу в ответ на его ультиматум. Имейте в виду, капитан, что генерал-адъютант Иванов состоит при особе его величества в качестве личного друга и советника! Говорю это себе в обвинение — я его еще не пристрелил и не пристрелю. Я только предложу вниманию государя польскую заметку. И знаете, что мне ответит его величество? «Ну, стоит ли, Михаил Васильевич, читать этот вздор?» А вот вам другой образец…»
В руках Алексеева письмо министра путей сообщения Трепова.
«Он хорош только тем, что у него великолепные усы. Это у них в роду», — как бы продолжая диалог свой с капитаном Смоличем, отмечает Михаил Васильевич.
Письмо полно объяснений причин неуспешной работы железных дорог. Все оно пестрит новомодными глаголами: «координировать», «корреспондировать», «консолидировать».
«Одного только нет слова — «капитулировать», а оно было бы кстати. Вся деятельность этого усача — полная капитуляция перед трудностью поставленных войною задач. Но я не имею власти гнать в шею его, капитан Смолич. Это вне сферы моего влияния. А отвечать буду я. И отвечу! Отвечу!
Ваш кумир Брусилов просит доставить ему шесть тысяч девятьсот парных повозок и двести хозяйственных двуколок. Он готовится к наступлению по-хозяйски. Он требует от меня экстренных мер для их поставки, иначе пострадает подвижность войск, и он прав. Но я капитулирую. Запишите это в обвинительный акт, капитан Смолич. Я ограничусь резолюцией…»
И Алексеев пишет маленьким своим почерком на полях письма Трепова:
«А как они будут координировать и корреспондировать, когда армия двинется вперед и оставит сзади только пустые сараи?»
Он знает наперед, что вопрос его повиснет в воздухе, обеспокоив одного лишь Пустовойтенко. Генерал-квартирмейстер прекрасно осведомлен в том, как много врагов у начальника штаба. Их станет еще больше… Вот и весь результат!
«Пусть! — с горечью думает Михаил Васильевич. — Иного оружия у меня нет, капитан Смолич! Теперь очередь за Эвертом. Полюбуйтесь, капитан, какая объемистая пачка телеграфных бланков!»
Пятнадцатого апреля немцы начали операцию против 11-й армии. После нескольких часов боя весь 5-й корпус откатился в дивизионные резервы. На поле сражения осталось семьдесят пять офицеров, девять тысяч двести шестьдесят семь нижних чинов, шестнадцать орудий и тридцать два пулемета.
Получив эти сведения, Алексеев телеграфировал Эверту в категорической форме, что ход событий пятнадцатого апреля в 5-м корпусе и конечные результаты боя заставляют серьезно задуматься над причинами и следствиями. Трудно согласиться с доводами командира 5-го корпуса, что внезапность атаки вызвала растерянность войск. Позорное отступление объясняется только отсутствием инженерной подготовки и управления в бою. Оно вызвано беспорядочностью ведения боя, недостатком общего руководства и согласованности действий отдельных частей. Нельзя ожидать и в дальнейшем ничего утешительного от контратаки, судя по подготовительным распоряжениям командующего и группировке войск. Система управления, принятая командованием, дает только случай бесцельно растрепать другой на очереди корпус, тогда как безусловно необходимо наказать противника и вновь занять утраченные позиции. Необходимо держать резервы, соображаясь с возможностями выступлений слабого, но деятельного противника. Стыдно, когда после трехчасового боя командиры корпусов спешат допросить, что положение безвыходно…
Безвыходное положение они создали сами еще до начала боя. Фотографий неприятельских позиций нет у них до сих пор. Не учтено, сколько единиц искусственных препятствий и укрепленных построек противника надо разрушить и сколько времени нужно держать противница под артиллерийским огнем. Механически, гадательно прикинули снаряды на орудие! Так же, как и в мартовскую операцию, хотя об этом твердо было сказано на совещании 1 апреля, не налажено непрерывное питание снарядами. Подвоз не отвечает потребности. Войска, назначенные для поддержки боевой линии, лежат открыто часами под неприятельским обстрелом, коченея в холодной воде… Войска без сносных окопов — на исходной линии. А когда противник перешел в наступление, передовые части не могли противопоставить ему никакой оборонительной силы. И командование кричит, что положение безвыходно! И просит оттянуть его войска в резерв на месяц, потому что все лучшее погибло и будет жаль, если последние кадры уничтожат! Поздно жалеть! Крокодиловы слезы!


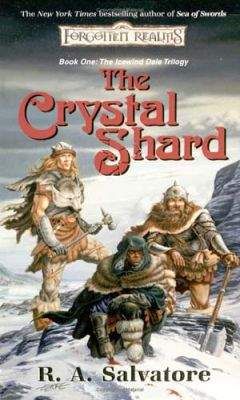
![Роберт Сальваторе - Магический кристалл [Хрустальный осколок]](/uploads/posts/books/64264/64264.jpg)
