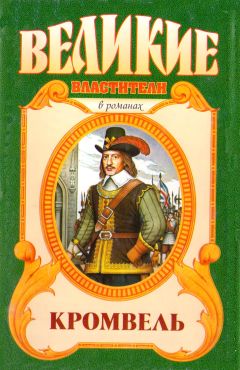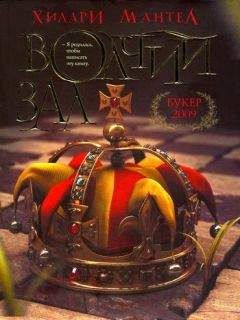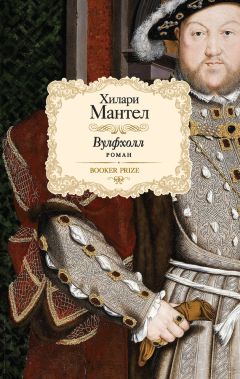Алексей Варламов - Булгаков
«– А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? – спросил Персиков, глядя поверх очков.
Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что… пока, гм… конечно, это было б хорошо… о, видите ли, все-таки пресса… хотя, впрочем, такой проект уже назревает в Совете труда и обороны…»
Это, конечно, ирония, но сказка ложь да в ней намек. Убежденный противник цензуры в области литературы, Булгаков относился к советским журналистам примерно так же, как герой известного тургеневского стихотворения в прозе «Корреспондент» к журналистам русским.
Булгаков никогда не чувствовал себя до конца своим среди авторов «Гудка», да и они не воспринимали его как своего. Между московским киевлянином и московскими одесситами проходила грань. Вовсе не национальная, хотя и это имело место. И дело было не только в том, что Булгаков отличался от них возрастом и иным жизненным опытом, характером, воспитанием, политическими взглядами («Мы были против нэпа – Олеша, я, Багрицкий. А он мог быть и за нэп. Мог» [32; 494], – рассказывал М. О. Чудаковой В. П. Катаев), культурой, литературными вкусами («Булгаков никогда никого не хвалил… Не признавал… Мы все время были страшно увлечены чем-то – вдруг, например, Вольтером. У него были устоявшиеся твердые вкусы» [32; 494]; «Что вы хотите от Миши? Он только-только, скрепя сердце, признал отмену крепостного права. А вам надо сделать из него строителя нового общества!» [4] – сказал, по преданию, о Булгакове Илья Ильф), наконец, происхождением, которое не считал нужным скрывать, а как только у него появилась возможность, открыто проявлять.
«С виду это был барин, спокойный, доброжелательный, насмешливый <…> грубо подтрунивать над кем-либо ему не позволяло воспитание, но если он смеялся, то непременно в типизирующих масштабах» [32; 157], – вспоминал Август Явич, а другой сотрудник «Гудка», уже известный нам Арон Эрлих, приводил в своих мемуарах следующий эпизод:
«Однажды в комнату „Четвертой полосы“ занесена была странная весть: в витрине художественного ателье на Кузнецком мосту выставлен некий портрет – новый, прежде его не было… Если бы не монокль с тесемкой, не аристократическая осанка в повороте головы, не легкая надменная гримаса левой половины лица <…> можно было бы побиться об заклад, что это <…> Булгаков! <…>
Не помню, кто из нас заметил тогда:
– Какой экспонат! <…> Находка. Лучшее украшение для нашей выставки, – последовало разъяснение. – Купим? Один экземпляр в „Сопли и вопли“.
Так мы и сделали <…> бывший врач и нынешний литератор, скромный труженик <…> и вдруг эта карикатурная стекляшка с тесемкой!.. В предательскую минуту, слишком упоенный собственным успехом, он потерял чувство юмора, так глубоко ему свойственное… Как могло случиться, что он не заметил, не почувствовал всей смехотворности своей негаданной барственной претензии?
Однажды он зашел в комнату „Четвертой полосы“ и тотчас увидел собственный портрет среди прочих подробностей нашей веселой выставки. Была долгая пауза. Потом он обернулся, вопросительно оглядел всех нас и вдруг расхохотался.
– Подписи не хватает, – сказал он. – Объявить конкурс на лучшую подпись к этому портрету!.. Где достали? У Наппельбаума?
Мы никогда больше не видели его с моноклем» [153; 74–76].
Смеяться можно было сколько угодно, но главное – работая в «Гудке», он жил с ощущением проходящего впустую времени: фельетоны не давали ему писать роман. Историки литературы сегодня охотно рассуждают о типологических связях булгаковских фельетонов с его прозой и драматургией, успешно отыскивают параллели и исследуют благотворное влияние поэтики фельетонов на роман «Мастер и Маргарита», утверждая, что без опыта работы в «Гудке» Булгаков не состоялся бы как романист. Иногда, говоря о судьбе писателя, ссылаются на известное рассуждение булгаковского литературного противника Виктора Шкловского: «Есть два пути сейчас. Уйти, окопаться, зарабатывать деньги не литературой и дома писать для себя. Есть путь – пойти описывать жизнь и добросовестно искать нового быта и правильного мировоззрения. Третьего пути нет. Вот по нему и надо идти. Художник не должен идти по трамвайным линиям. Путь третий – работать в газетах, в журналах, ежедневно, не беречь себя, а беречь работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова изменяться, снова скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература» [151; 9].
Однако к Булгакову ни один из этих путей не имеет ни малейшего отношения. В том числе и третий, шкловский. Никакую ежедневную газетную и журнальную работу он не берег, никогда с нею не скрещивался и ничего не обрабатывал, а попросту ее ненавидел. Он состоялся как писатель не благодаря журналистике, а вопреки ей. Жизненного опыта ему доставало и так, литературный путь был ясен, и если уж говорить об идеале, который представлял себе Булгаков, то он был сформулирован в повести «Тайному другу» предельно иронично и категорически ясно: «Мне очень хотелось бы, чтоб государство платило мне жалование, чтобы я ничего не делал, а лежал бы на полу у себя в комнате и сочинял бы роман. Но государство так не может делать, я это превосходно понимаю».
Булгаковский дневник 1923–1925 годов буквально пропитан отвращением к железнодорожной газете, которая отнимала у него время и мешала в самом главном:
«Жизнь идет по-прежнему сумбурная, быстрая, кошмарная. К сожалению, я трачу много денег на выпивки. Сотрудники „Г<удка>“ пьют много. Сегодня опять пиво. Роман <из->за <работы в> „Г<удке>“, отнимающей лучшую часть дня, почти не подвигается».
«„Гудок“ изводит, не дает писать».
«Я каждый день ухожу на службу в этот свой „Гудок“ и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день».
«Я по-прежнему мучаюсь в „Гудке“».
«Был в этом проклятом „Г<удке>“…»
Позднее это состояние отразится в повести «Тайному другу»:
«Я же лелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всею душой, но где лежала груда листов. По сути дела, мне совершенно незачем было оставаться в редакции. И вот происходил убой времени. Я, зеленея от скуки, начал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до отупения.
Наконец, убив часа два, я исчезал».
Что говорить про дневник или не предназначавшуюся для печати повесть, если в открытой, опубликованной в Советском Союзе автобиографии Булгаков, не таясь, написал: «В Москве долго мучился; чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни».
Кто бы еще на такое решился, тем более что должность редактора подразумевала не только художественное, литературное, но политическое назначение?
Но мало того, что его заставляли писать фельетоны на ненавистные ему темы. В Пушкинском Доме сохранился замечательный, очень живой и непосредственный документ, суть которого понятна любому человеку, родившемуся не позднее середины семидесятых годов минувшего века, то есть каждому, кто хлебнул обыденной советской жизни:
«Заявление
В ответ на запрос месткома о причинах моей неявки на манифестацию 20-го мая 1923 г. сообщаю следующее:
Пользуясь субботней ночью (с 19-го на 20 мая с. г.) я до 6 час. утра работал над моим последним рассказом. Заснув около 6 1/2 ч. утра 20 мая, я оставил записку с просьбой разбудить меня в 12 1/2 час. дня, с тем чтобы идти на манифестацию. Вследствие того, что попытки разбудить меня не привели ни к чему, я проспал до 2 1/4 час. дня и на манифестацию опоздал.
21/V- 1923
М. Булгаков» [131; 150].
Размашистая резолюция месткома гласила: «Надо было просить будившего под ребро ткнуть» [131; 150].
Будила Булгакова столь деликатно, если, конечно, будила, робкая Тася, а манифестация, которую писатель проспал, была направлена против ультиматума лорда Керзона, – событие, которое фельетониста волновало, так что факт его отсутствия на демонстрации советских трудящихся отнюдь не означал равнодушия к большой политике, каковую он всегда остро ощущал и насыщал ею и свои произведения и тем более дневник:
«…начались большие события: советского представителя Вацлава Вацлавовича Воровского убил Конради в Ло<занне>, 12-го в Москве была грандиозно инсценированная демонстрация. Убийство Воровского совпало с ультиматумом Керзона России: взять обратно дерзкие ноты Вайнштейна, отправленные через английского торгового представителя в Москве, заплатить за задержанные английские рыбачьи суда в Белом море, отказаться от пропаганды на Востоке и т. д. и т. д.
В воздухе запахло разрывом и даже войной. Общее мнение, правда, что ее не будет. Да оно и понятно, как нам с Англией воевать? Но вот блокада очень может быть. Скверно то, что зашевелились и Польша и Румыния (Фош сделал в Польшу визит). Вообще мы накануне событий. Сегодня в газетах слухи о посылке английских военных судов в Белое и Черное моря и сообщение, что Керзон и слышать не хочет ни о каких компромиссах и требует от Красина (тот после ультиматума немедленно смотался в Лондон на аэроплане) точного исполнения по ультиматуму. <…> Я выбился из колеи – ничего не писал 1 1/2 месяца».