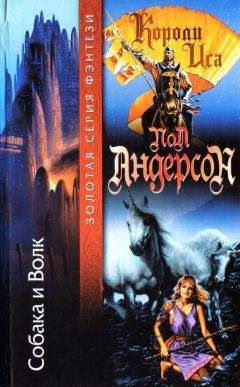Свен Дельбланк - Пасторский сюртук. Гуннар Эммануэль
Г-н фон Штайн поспешил спрятать корректуру под портфелем.
— Вам тоже не откажешь в наблюдательности, господин пастор. Вы ведь позволите называть вас так? Что ж, я в самом деле не чужд общения с музами — когда позволяют служебные обязанности. Впрочем, большею частью я занимаюсь естественными науками, ботаникой, оптикой, анатомией… Открытие и описание межчелюстной кости снискало мне определенную известность в ученых кругах.
— Я тоже пробовал силы в разных науках, к сожалению и в богословии. Вы сказали, анатомия? Тогда вам знакомо имя Ахата фон Притвица?
— Разумеется. Крупный анатом. Вдобавок он занимался сей наукой как надобно.
— Как надобно?
— Да. Как любитель и дилетант.
— Вот, стало быть, каков ваш идеал. Быть любителем в челюстных костях и в поэзии?
— Или в философии, как вы, господин пастор.
— Сударь!
— Однако ж поймите меня правильно. Любитель для меня — звание почетное.
— Ах вот как. А стихи, которые вы пишете… Простите, очень было бы интересно приобщиться к вашим литературным опытам.
— Ну что вы. Мы, любители, робеем холодного света публичности. Наши опыты способны выдержать только критику любящую и дружескую. Но откуда сей интерес? Вы тоже поклонник муз?
— В высшей степени. Я пробовал себя во всех поэтических жанрах, в трагедии, эпосе, комедии, сатире, посланиях, героидах, одах… Моя мечта, точнее, одна из многих, — стать великим поэтом. Но, увы, у меня редко хватает сил завершить начатое.
— Подлинно любитель!
— После первого акта я безнадежно запутываюсь в интриге, через два десятка строф мой александрийский стих выдыхается… Просто заклятье какое-то.
— Значит, вы никогда не выходили на публику, дабы снискать ее благосклонность?
— Один только раз. Я написал трактат о приятии Святого Духа, который посвятил бреславльскому суперинтенденту.
— И хорошо ли он был встречен?
— Отнюдь нет. Его преосвященство отписал, что работа моя свидетельствует об учености и усердии, но вовсе не о личном опыте приятия Святого Духа.
— Он был прав.
— Простите?
— Я говорю, его преосвященство был прав.
— Сударь! Как вы смеете? Позвольте спросить, читали ли вы вообще мой труд?
— Увы, не имел удовольствия. И все же думаю, суперинтендент был прав. Приятие Святого Духа… Нет, знаете ли, об этом не пишут, даже если полагают, что восприяли Его. Есть таинства, которые поэту должно обходить молчанием, почтительно отвернувшись…
— Чепуха! Я называю это дефетизмом. Pusillanimitas[48]. Трусливым и греховным малодушием.
— Лучше назвать это мудростью. Искусство есть умение отступиться, не делать. Я очень хорошо понимаю, что с такими принципами ваши эпосы и трагедии пошли прахом. Высочайшее и низменнейшее надобно обходить молчанием. Поэту нельзя обретаться ни на горе Синай, ни в подземном мире. Он должен жить в долине, вместе со своими собратьями.
— Не могу разделить ваше мнение. Возможно, вам, господин любитель, равнина подходит как нельзя лучше. Однако ж я не имею привычки к умеренному климату. Я раскачиваюсь, словно маятник, между экватором и полюсом, между восторгом и отвращением. Я должен заниматься этими крайностями. То, что находится между ними, известно мне только понаслышке.
— Тогда для вас самое разумное — сей же час повесить лиру на гвоздь. Взгляните. Видите, что здесь изображено?
Герман с интересом рассматривал бумагу; это была гравюра в манере неоклассицизма. Молодой охотник, на которого напали собственные собаки. Прекрасный нагой юноша с леопардовой шкурой на плечах. Мощными зубами собаки грызли его белоснежные ляжки. А он умоляющим жестом воздевал руки горе, красивое лицо выражало сдержанную печаль, плохо сочетавшуюся со свирепой атакой псов. Скорее можно было подумать, будто он сетует богам на скверную погоду.
— Ну, что скажете?
— Н-да… На мой вкус, чуть слишком статично и стилизованно. Впрочем, эта манера теперь как будто бы в большой моде?
— Чудесная гравюра. Это Актеон, помните, он ненароком увидел в купальне обнаженную Диану и в наказание был растерзан собственными собаками. Разве это не намек, обращенный к нам, литераторам? Что мы не вправе стремиться к абсолютному. Нам должно отвернуть свое лицо от обнаженной тайны. Соблюдать свои пределы.
— О! Все мое существо восстает против этого заявления. Экое вероломство! Поэту Актеону даровано узреть тайну — богиню в дивной наготе… И что же? По-вашему, он должен зажмуриться, и отвернуться, и воротиться украдкой к охоте на полевок и кроликов? Вероломство! Я утверждаю: его священный долг — ринуться вперед и завладеть богиней, пусть даже ее лоно спалит его дотла. Прекрасная смерть!
Г-н фон Штайн, сам того не желая, сделал жест недовольства и отвращения.
— Ну, знаете ли, господин пастор, экая мерзостная эстетика, совершенно в духе богоборца-титана. Признаться, когда-то и я был не чужд подобных идей…
— Вот видите!
— Но, по счастью, я их преодолел. Долг, говорите. Но ведь то, чего вы жаждете, невозможно! Переживания, о которых вы ведете речь, нельзя выразить словами. Неизбежным результатом ваших амбиций будет наивная и смешная поделка! Хотеть, но не мочь.
— Наивная и смешная поделка? Да, разумеется. Именно такое произведение и есть подлинное искусство или по крайней мере творение настоящего художника. Тайну нельзя выразить словами, утверждаете вы. Языку подвластна лишь ничтожная часть возможного. И что же? Настоящий художник отказывается признать свои пределы, отказывается признать реальность. В этом величие и достоинство, в этом смешное и наивное. Да, конечно! О-о, как я ненавижу эти жалкие, ничтожные душонки, что глумятся над наивным и смешным, коллекционируют наивные и смешные поделки, словно редких экзотических мотыльков! Как можно иметь столь извращенный вкус, чтобы читать наивные и смешные сочинения без священного трепета перед могучим томлением, которое от них исходит… Оставьте при себе ваших классиков и мастеров, господин фон Штайн, я же охотно променяю их на одну-единственную строчку любой из этих подлинно великих, смешных и наивных поделок, напоенных священным томлением их создателей!
— Экий вы неистовый… Превозносите смешные и наивные сочинения… Отрицаете свои пределы… Какая безумная гордыня!
— Мужество! А не гордыня!
— Мужество…
— Да, мужество! Отступить, отказаться… Будто нам мало нажима и ограничений, навязанных извне, условий, которые не в нашей власти. Кто, если не мы, разбудит спящее сознание? Кто, если не мы, отыщет смысл и план в той паутине пустяков и анархии, что зовется бытием?
— Это поприще философов, а не наше с вами.
— Философов? Боже милостивый, господин фон Штайн, вы не хуже меня знаете, что нынешние мыслители полагают себя выше этаких мелочей. Если я правильно понял французскую энциклопедию, которую, сказать по правде, читал с тяжелым сердцем, так они теперь гордятся умением разбирать предложения в бытовом языке и с величайшим недовольством смотрят на чудаков, пытающихся включить хаос в систему здравого смысла и рассудка, и нападают на этих заблудших искателей квадратуры круга с яростью, которая поистине вызывала бы подозрение, не будь она продиктована самым горячим радением о правде. Но мы, литераторы, покуда имеем право на этакие экстравагантности, хотя нельзя отрицать, что терпимость знатоков к нашим сумасбродствам с недавних пор слегка поуменьшилась. Вы же знаете, как обстоит в салоне, когда слово берет красивая простодушная женщина. Господа слушают с рассеянной улыбкой, меж тем как взгляды знай себе ныряют в ее декольте, а когда она умолкает, они, благосклонно кивнув, как ни в чем не бывало продолжают свою беседу. И это принимают как должное! Но я не намерен терпеть, я буду кричать, пока не дождусь ответа, буду кататься по полу, ровно пьяный мужик, показывать свой срам и дергать ковер, пока на меня не обратят внимания…
— Омерзительно… Так говорят только смешные и наивные авторы…
— Согласен. Лучше петь фальшиво, чем медленно умолкать, подчиняясь принуждению. Я не намерен сидеть сложа руки, как безвольный монарх, меж тем как дерзкие вельможи мало-помалу отнимают у меня мои полномочия, мою власть… «Ваше величество, с такими сложностями человек в одиночку не справится… Сир, это не относится к сфере вашей компетенции… Заклинаю вас, Ваше величество, ограничьте вашу деятельность национальными празднествами… И благоволите, Ваше величество, не затрагивать в торжественной речи спорные материи…» Фу! Я этого терпеть не намерен!
— Горделивые слова, господин Диоген. И заслуживающие, пожалуй, более прочной основы, нежели маленький трактат о Святом Духе…
— Вздор! В этом ремесле и без того чересчур много скромности.
— Скромность, пожалуй, не то качество, которое в первую очередь связывают с профессией литератора.