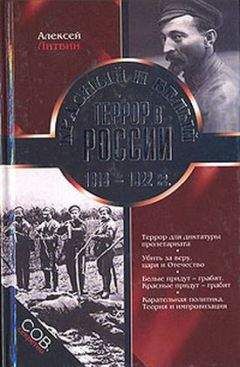Торнтон Уайлдер - Мост короля Людовика Святого. Мартовские иды. День восьмой
В дополнение царица обращает ваше внимание на следующие обстоятельства.
1. Донесения источника 14 (Абра) ничего не стоят. Ее простодушие показное. Нетрудно добиться от нее более ценных сведений, пригрозив, что ее разоблачат, а также применяя другие методы воздействия.
2. Уверены ли вы, что доподлинно знаете причины исчезновения диктатора с моего приема 27-го числа? Его дежурство у одра охальника-стихоплета не кажется мне достаточным объяснением.
3. Надо приложить все силы к тому, чтобы внедрить своего агента в дом Марка Антония. Возвращаю собранные вами доказательства его измены диктатору (в 46). Их следует хранить вместе с документами, которые вы особенно тщательно оберегаете от кражи или изъятия. Прочие материалы, найденные у него дома, оставляю у себя.
4. Портниха Мопса. Добудьте поскорее полные сведения о ее жизни, происхождении, знакомствах и пр. А также расписание деловых визитов на этот месяц. Она придет ко мне 17-го — шить одеяния для Таинства Доброй Богини.
5. Задание на эту неделю: пристально следить за госпожой Клодией Пульхрой и ее братом. Какие толки идут по поводу ее отъезда в деревню? Когда она возвращается в Рим? Донесение Сосигена (египетского астронома) неудовлетворительно. Разъясните ему, за чем вести слежку.
Я тоже думаю, что Клодий Пульхр пытается соблазнить жену диктатора. Следите за этим очень внимательно. Не сомневаюсь, что они поддерживают связь через источник 14. Сообщите ваши соображения, как можно это использовать.
В награду за усердие и ловкость, которые вы проявили в столь трудном деле, я охотно предоставляю в вечное пользование вам и вашим потомкам Соссебенский Оазис вместе со всеми его доходами и податями, кроме указанных в эдиктах 44 и 47 (ограничения на сборы, взимаемые областными чиновниками и землевладельцами с крестьян, а также на плату за водопой верблюдов в источниках и реках).
LII. Помпея — Клодии(12 ноября)
Дорогой Мышоночек, я так по тебе соскучилась. Никто не понимает, зачем тебе вздумалось забираться в глушь, когда в городе столько всяких событий. Я спрашивала мужа, что за интерес для тебя в этой математике, а он говорит, что ты сильна в таких делах и знаешь все на свете про звезды и чем они занимаются.
Ручаюсь, гадай хоть десять раз, все равно не угадаешь, кто к нам теперь ходит чуть не каждый день и как мы проводим время. Клеопатра! И не только Клеопатра, но и актриса Киферида. И все это — затея моего мужа. Ну разве не странно?
Сперва Киферида пришла учить меня — сама знаешь чему. Потом стала приходить и Клеопатра тоже поучиться тому же. В конце урока царица попросила Кифериду подекламировать, и как ты думаешь, что? — прямо кровь в жилах стынет. Как Кассандра сходит с ума, а Медея вздумала убить своих деток и как все там умирают. Муж теперь стал рано приходить домой и все та-та-та да та-та-та насчет греческих пьес. Потом встает, он — Агамемнон, Киферида — Клитемнестра, Клеопатра — Кассандра, мы с Октавианом изображаем хор, ну а потом все идем ужинать. Ах, дорогая, вот жалость, что тебя нет, мне ведь не с кем посмеяться, они все такие серьезные. А мне ужасно смешно, когда муж вдруг начинает рычать, а Клеопатра становится как бешеная.
Честное слово, царица мне даже нравится. Конечно, она не такая, как мы с тобой. Раньше мне казалось, что она просто уродина, но иногда она делается чуть ли не красавицей. И я ни капельки не ревную. Муж обращается с ней совсем как с тетей Юлией.
Вчера царица спросила его, когда ты возвращаешься. Она надеется, что скоро, потому что ты должна наставить ее в обрядах. Муж говорит, что не знает твоих планов, но думает, что ты вернешься к 1 декабря.
Душенька, я видела твоего брата, то есть твоего младшею брата: по дороге к озеру Пеми он подъехал к моим носилкам на лошади. Он так на тебя похож, что я просто удивляюсь. Люди говорят, будто он человек нехороший, и даже ты так о нем сказала, но я знаю, что это неправда. Дорогая Клаудилла, не смей так к нему относиться, кто же не станет дурным, если ему все время твердят, что он гадкий!
Судя по моему письму, ты еще подумаешь, что мне очень весело, но это не так. Я почти не выхожу из дому, и никто, кого бы я хотела видеть, к нам не ходит. Один раз я была у египетской царицы и навестила по случаю беременности жену Брута Порцию. Иногда я просто сижу дома и думаю, что лучше мне умереть. Если не живешь, пока молода, когда же еще жить? Я обожаю своего мужа, и он обожает меня, но я люблю общество, а он не любит.
Только что мне сказали, что я зря ездила к Порции: у нее выкидыш, и, значит, мне вовсе незачем было туда тащиться.
LIII. Киферида — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри(25 ноября)
Атмосфера в Риме, дорогой друг, грозовая, беспокойная: языки становятся все острее и злее, но смеха не слышно, что ни день передают рассказы о гнусных проделках и преступлениях, где не столько страсти, сколько безрассудства и распущенности. Раньше я думала, что тревога живет во мне самой, но теперь ее ощущают все. Наш Хозяин еще деятельнее, чем всегда, что ни день — эдикт. Издаются постановления о ростовщичестве, о том, что все должны мести улицу у себя перед домом; в мостовую перед судом вделали большую карту, на ней выбиты золотые орлы, обозначающие новые города. Молодые мужья стоят над ней и, поглаживая подбородки, решают, где занести новый очаг — во льдах или под палящим солнцем.
Я было приняла ваше приглашение приехать на Капри, но тут Хозяин попросил меня учить его жену и царственную гостью, как вести себя на церемониях в начале декабря. У нас было восемь уроков, которые часто заканчивались чтением отрывков из трагедий, в чем принимали участие все, включая Цезаря, и я почувствовала, как за этими трагедиями разыгрывается подлинная трагедия.
Я начинаю понимать эту загадку — брак Цезаря. И вижу, что он держится вовсе не на извращенной склонности к молоденьким девушкам, как утверждают злые языки. Цезарь — учитель; это его страсть. Он способен любить лишь тех, кого можно учить; в ответ он требует только успехов и тяги к просвещению. От молоденьких девушек он хочет только того, что Пигмалион просил у мрамора. Насколько я знаю, он трижды был вознагражден — своей дочерью, Корнелией и царицей Египта — и много раз получал отпор. Сопротивление, которое ему оказывают сейчас, непреодолимо и сокрушительно. Помпея не настолько глупа, но его метод обращения с ней так неумен, что только пугает ее и лишает последних умственных способностей. Любовь как воспитательница — одна из величайших сил на свете, но она хрупка и также редко создает гармонию отношений, как любовь, основанная на чувственности. А будучи безответной, она вносит еще больший разлад, ибо, как и всякая любовь, она безумна. С одной стороны, он любит ее как нежное растение и как женщину (надо видеть, как Цезарь смотрит на женщину!), а с другой стороны, он любит в ней ту новую Аврелию или новую Юлию Марцию, которой она могла бы стать. В его представлении Рим — олицетворение женского начала; он женился на Помпее, чтобы вылепить из нее еще одну живую статую великой римской матроны.
Клеопатра тоже обманула его ожидания. Можно догадываться, как упоительно сочетала она поначалу все качества любимой ученицы. Она еще не перестала ею быть. Я боготворю этого титана, но я старая женщина, меня уже не воспитаешь. Однако мне понятен тот жадный восторг, с каким она внимает каждому его слову. И вдруг он обнаружил, что не может научить ее самому главному, ибо главное, чему он учит, — это мораль, ответственность, а Клеопатра не имеет даже смутного понятия о том, что хорошо, что плохо. Цезарь не осознает своей страсти к учительству — для него она невидима, как всякая самоочевидность. И поэтому учитель он из рук вон плохой. Он предполагает, что все люди одновременно и учителя, и жадные до знаний ученики, что в каждом бьется живое нравственное начало. Женщины куда более хитроумные учителя, чем мужчины.
Меня глубоко трогает, когда я вижу, как великие люди пытаются создать семью там, где никакой семьи быть не может, и продолжают затрачивать безответную нежность на неподходящих жен. Терпение, которое они проявляют, совсем не похоже на терпение, с каким жены относятся к своим мужьям, у тех оно естественно и так же не нуждается в похвале, как честность честных людей. Иногда видишь, как оскорбленные мужья прячутся в свою скорлупу; они узнали исконное одиночество человека, которого никогда не почувствуют их более удачливые собратья.
Такой муж и Цезарь. Другая его жена — Рим. Он плохой муж обеим, но от избытка мужней любви.
Разрешите мне несколько продолжить мысль.
Я только недавно поняла слова, которые вы обронили много лет назад: «зло определяет границы личной свободы» — верно я запомнила? — и что «оно может быть поисками предела того, что можно уважать». Как глупо, что я не усвоила этого раньше, дорогой господин; я могла бы сыграть это в Медее и в Клитемнестре. Да, исходя из этой мысли, разве нельзя сказать, что многое из того, что мы зовем злом, эта самая сущность добродетели, старающейся проникнуть в законы, которые ею управляют? И не это ли подразумевает Антигона, моя Антигона, наша Антигона, когда она говорит (в трагедии Софокла, в ответ на утверждение Креона, что ее убитый «добрый» брат не захотел бы, чтобы ее злого брата похоронили с почестями): «Кто может знать, а вдруг в загробном мире его (злые) деяния покажутся безупречными?» Вот в чем объяснение безумных выходок Клодии, и, если Цезарь будет зевать, Помпея тоже станет искать, где лежат пределы ее любопытству. Природа кладет предел нашим чувствам: огонь обжигает пальцы, сердцебиение мешает бегом взбираться на горы, но лишь боги могут положить предел вольностям нашего ума. Если же они не желают вмешиваться, мы принуждены выдумывать свои собственные законы или в страхе ходить по пугающему бездорожью свободы, мечтая найти опору хотя бы в запертых воротах, хотя бы в глухой стене. Авторы фарсов любят шутить, будто жены радуются, когда их бьют мужья. В этой шутке, однако, есть доля истины: как утешительно знать, что тебя любят настолько, что берутся определить пределы допустимого. Мужья часто оступаются — в обоих направлениях. Цезарь — тиран и как муж, и как правитель. Но вовсе не в том смысле, как другие тираны, которые скупятся дать свободу другим; просто он, будучи недосягаемо свободен сам, не представляет себе, как растет и проявляется свобода в других; поэтому он всегда ошибается и даст то слишком мало, то слишком много этой свободы.