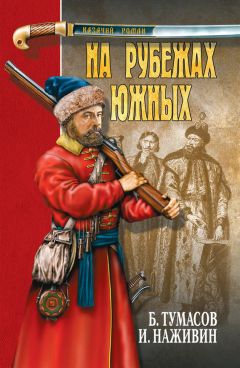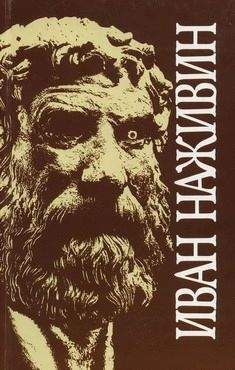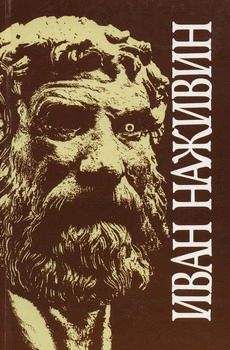Иван Наживин - Степан Разин. Казаки
– Вот сюда, государь... – сиял Матвеев. – Милости прошу...
Царь вошёл в обширный, светлый, весь увешанный зеркалами, парсунами и картинами варяжского письма, покой. Он весь уставлен был золочёной иноземной мебелью и коврами устлан пушистыми. Дородная, величественная Евдокия Семёновна, сзади которой держалась скромно какая-то девица с золотым подносом в руках, низко склонилась перед высоким гостем.
– Добро пожаловать, великий государь...
Царь принял золотой кубок мёду и – чуть не выронил его из рук: перед ним в нарядном летнике и в телогрее с откидными рукавами стояла та, о которой так тосковало его сердце! Он быстро справился с собой.
– Здравы будьте, хозяин, и ты, хозяюшка... – ласково, радостный, проговорил он. – А я и не знал, Сергеич, что у тебя дочка есть... Да какая красавица!..
Наташа вся вспыхнула, и тёмные глаза её просияли.
– То не дочка, великий государь... – отвечал Матвеев. – Это воспитанница моя, дочь Кирилла Полуэктовича Нарышкина, Наталья Кирилловна...
– Вот что!.. Я и не знал... – сказал Алексей Михайлович. – Ну, будьте же здравы все... И ты, Наталья Кирилловна... Дай Бог вам на новоселье всякого благополучия и в делах ваших скорого и счастливого успеха...
И одним духом, по обычаю дедовскому, он осушил кубок и, опрокинув, показал всем, что в кубке не осталось ни капли. Хозяева, сияя, низкими поклонами благодарили дорогого гостя.
– Ну, а теперь ведите меня, показывайте хоромы ваши... – говорил царь. – Вот теперь ты, Сергеич, как следует устроился... А то жил Бог знает как... К чему это пристало?
– Невысокого рода мы, государь... – отвечал Матвеев. – И не пристало мне тягаться с высокородными. Только чтобы из твоей воли не выходить, государь, и построил я себе эти палаты, чтобы твоему величеству порухи не было... Это вот столовая палата... Там, на хорах, мусикия играть у меня будет...
Наташа шла с Евдокией Семёновной сзади. Как он постарел, как раздобрел, как поседел!.. Мелькнул в мыслях образ молодого витязя с огневыми глазами, князя Сергея Одоевского, который часто, слишком уж часто на лихом скакуне ездит всё мимо двора их в алом зипуне, в кафтане златотканом, в белой, опушенной соболями епанче... Нет, то всё же обычное, да и запретное: женат князь... – а тут: Великий Государь, Царь и Великий Князь всея Русии, Великия, Малыя, Белыя, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский и прочая, и прочая, и прочая.
Глаза её сияли, как звезды...
XXVIII. Море крестьянское
Русь закипала из края в край. Посланцы Степана Разина – большинства из них он и в глаза никогда не видал, ни слова с ними не говорил, никуда их не посылал, – работали с неусыпным усердием по градам и весям и читали людям грамоты атамановы, которых он никогда не писал. Там шептали эти шептуны, что идет атаман на бояр, на дворян, на приказных людей, чтобы всяк всякому на Руси ровен был, чтобы всё было у всех обчее. В другом месте уверяли эти шептуны народ, что идут казаки с царевичем и что даст этот царевич народу православному хлеба вволю, во всём полную волюшку и жизнь лёгкую и радостную. Там поднимали они чёрный люд за Никона, неправедно от бояр страждущего, в других местах ополчали они темноту против новшеств никонианских с яростью, инородцев поднимали против русских притеснителей, а раскольников за веру святоотеческую... Годилось в дело всё – только бы раскачать, только бы повалить, только бы ослобониться.
И разгоралась иссушенная тяжкими невзгодами безбрежная русская степь со всех концов, взволновалось до дна, замутилось огромное царство мужицкое, морем бурным вздыбило оно под ударами грозовой тучи, что с Волги-матушки над ним заходила...
В глубокой старине, хотя и очень скудно, но зато и вольно жило русское крестьянство: не по нраву пришлось в одном месте, можно идти в другое. Правда, эту свободу перехода в наше время склонны очень преувеличивать. Если по закону и по обычаю крестьянин это право в старину и имел, то это не значит, что это право он всегда использовать мог. Перевезти целое хозяйство – как бы убого оно ни было – с одного места на другое это совсем не то же, что переехать с одной квартиры на другую. Тут и скотинка, и снасть всякая, и ребята малые, и могилки родительские, и привычка, а главное, тут нужны деньги, чтобы на новом месте приладиться и пустить корни, а денег-то у мужика как раз никогда и не было. Уже Герберштейн{16} отмечал, что были в его время землевладельцы, которые, несмотря на все «порядныя» грамоты, заставляли мужика работать на себя шесть дней в неделю – уже в XVI веке!.. Это показывает, как, лёгкий на бумаге, нелёгок был в жизни для мужика этот переход на другое место. На такое передвижение он решался только тогда, когда на старом пепелище совсем уж терпения не хватало. Но, конечно, старый Юрьев день этот – 26 ноября, по первопуточку, – для него, сироты, всё же был известным подспорьем в его тяжкой доле, в его роли колонизатора русской, всё ещё порожней земли, её дикого поля. Известные преимущества, как справедливо замечают некоторые исследователи этой эпохи, имел Юрьев день и для землевладельца даже: пока стоял Юрьев день нерушимо, землевладелец мог какого-нибудь нерадивца или кабацкого завсегдатая просто согнать с своей земли, а после отмены вольного перехода всё, что ему, бедному, оставалось, это только допекать неисправного мужика штрафами да пороть его...
Первое время, на заре русской истории, землевладельцы старались превзойти один другого привилегиями и льготами, чтобы приманивать на свои земли работных людей, но уже в сороковых годах семнадцатого века стало тесно, они стали жать мужика так, что московское правительство вынуждено было у тех, кто уж очень допекал крестьян, земли отбирать и записывать на великого государя; сверх того помещик – на бумаге – должен был выплатить мужикам всё, что он у них забрал противозаконно, а в вотчинах земля и крестьяне отнимались у жестокого землевладельца и передавались его родственникам, добрым людям. Да и после издания Уложения (1649) за крестьянином оставалось право перехода, но теперь он был обязан поставить на свое место другого, что, конечно, было весьма трудно: ибо там, где несладко пришлось дяде Якиму, несладко было бы и дяде Якову. Это-то мужики понимали... И потому, если дяде Якиму приходилось уносить ноги, то он не особенно заботился, кто будет на его месте, и давал тягу так, чтобы и следу его было не найти. В этом отчасти помогали ему и сами землевладельцы, а в особенности на украинах, подальше от Москвы: так как за беглых в казну платить ничего не приходилось, то землевладельцы, обманывая московское правительство, весьма охотно принимали и укрывали их. А ежели приезжало, пронюхав, начальство с ревизией, то землевладельцы, чтобы прибедниться, отправляли на некоторое время в леса не только беглых крестьян, но даже и своих, часто целыми деревнями. А пройдёт гроза, снова мужички возвращались к господину и трудились на него по мере сил...
Но это вечное передвижение рабочей и, главное, платёжной силы очень путало дела правительства, и оно всеми силами боролось против этого... Уже в удельный период князья давали один другому записи не только чёрных людей один у другого не переманивать, но, по возможности, и не принимать, когда они поднимутся и пойдут с своих мест самовольно. Очень благоволивший к чёрным людям Иван IV все же вынужден был черносошных – государственных – крестьян прикрепить к земле. Годунов – ещё при Феодоре Ивановиче – начал стеснять в переходе и крестьян частновладельческих. С воцарением Романовых закрепление крестьян становилось всё настойчивее, всё круче, и на долю тишайшего царя выпало нанести мужику последний, сокрушительный удар ещё в 1649 году, а во второй половине XVII века крестьяне были уравнены в бесправии с холопами, и если по закону их ещё нельзя было продавать без земли, то жизнь очень скоро нащупала обходы этого закона и помещики и вотчинники стали продавать мужика и без земли, как лошадь, как корову, как барана, как всякую другую рабочую скотинку.
И это прикрепление крестьянства к земле, усиление власти воевод, образование постоянного войска, словом, торжество единодержавия и усилило разбегание крестьянской России «розно» и вызвало и укрепило казачество как в Сечи, так и на Дону, так и на главном тогда торговом пути, на Волге. Казачество это было противодействием старого вольного уклада новой жесткой государственности. И всегда и повсюду в чёрных людях казачество вызывало глубокие симпатии: оно теснило богатых и знатных, оно было последним спасением. И если для воевод и богатых гостей казаки были лихие люди, воры, разбойники, то для чёрного народа это были удалые добры молодцы.
Но бежать всем в Запорожье, на Дон, в Жигули было немыслимо: были люди и многосемейные, и характером мягкие, нерешительные, да, наконец, после Лихолетья власть всё же постепенно окрепла и очень энергично, хотя и не всегда удачно, ставила этой бродячей Руси препятствия. Крестьянство постепенно оседало, пускало корни, склоняло выю под ярмо необходимости и терпеливо шло своим воистину крестным путем. Что значительную роль в этой крестьянской драме играл Рок – инстинктивное желание великого народа закрепить за собой необъятные, выпавшие на его долю пространства, – этого беспристрастный мыслитель отвергать никак не может, но точно так же не может этот беспристрастный мыслитель отвергать и того, что много повинны были в тяжком положении крестьянства правящие классы того времени, что слишком уж обесправили они молодших людей государства Российского, что слишком уж много требовали они себе всего и слишком мало оставляли тем, кто на натруженном горбу своём нёс огромную тяжесть и их, и новорожденной державы Российской.