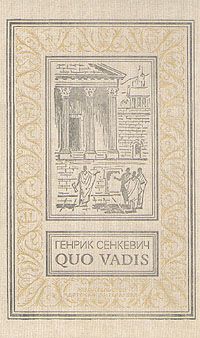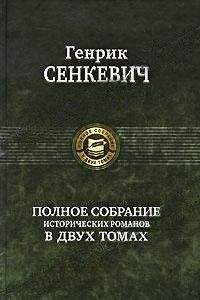Генрик Сенкевич - Камо грядеши
— Ты всегда ей следовал. В ней нет ничего нового!
— В ней есть содержание, которого прежде недоставало. — С этими словами Петроний позвал Эвнику, и та вошла в белом одеянии, сияющая, золотоволосая, словно уже не рабыня, но богиня любви и счастья.
— Иди ко мне! — сказал Петроний, раскрывая объятья.
Эвника подбежала и, сев к нему на колени, обвила руками его шею и положила голову ему на грудь. Виниций видел, как щеки ее постепенно заливал румянец и глаза застилала дымка. Эта пара являла собой дивное воплощение любви и счастья. Петроний протянул руку к стоявшей рядом на столе невысокой вазе и, зачерпнув пригоршню фиалок, начал осыпать ими голову, грудь и столу Эвники, потом сдвинул тунику с ее плеч и, любуясь, сказал:
— Блажен, кто, подобно мне, нашел любовь, заключенную в таких формах. Порой мне кажется, что мы с нею небожители. Гляди — разве Пракситель, или Мирон[279], или Скопас, или Лисипп создали когда-либо более прекрасные линии? Разве на Паросе или на Пентельской горе[280] есть мрамор, равный этому, такой теплый, розовый, дышащий любовью? Некоторые люди обцеловывают края ваз, я же предпочитаю искать наслажденье там, где его действительно можно найти.
И он стал водить губами по ее плечам и шее, а она, вся трепеща, то закрывала глаза, то приоткрывала их с выражением несказанного блаженства. Но вот Петроний приподнял свою изящную голову и, обращаясь к Виницию, сказал:
— А теперь подумай, чего стоят рядом с этим твои мрачные христиане, и если не видишь различия, то и ступай себе к ним. Но, думаю, это зрелище должно тебя исцелить.
Виниций, раздувая ноздри, вдыхал наполнявший комнату аромат фиалок, он был бледен, и в уме у него пронеслось, что, если бы он мог вот так целовать плечи Лигии, это было бы наслаждением кощунственным, но столь упоительным, что потом — хотя бы весь мир погиб. Однако, привыкнув уже давать себе отчет в своих чувствах, он отметил, что и в эту минуту думает о Лигии, только о ней.
— Эвника, божественная, — сказал Петроний, — прикажи приготовить нам венки и завтрак.
Когда она удалилась, он сказал Виницию:
— Я хотел ее освободить, и знаешь, что она мне ответила? «Предпочитаю быть твоей рабыней, чем женой императора». И отказалась. Тогда я отпустил ее на волю без ее ведома. Претор сделал это ради меня, не потребовав ее присутствия. Но она об этом не знает, как и о том, что этот дом и все мои сокровища, кроме гемм, в случае моей смерти будут принадлежать ей. — Он встал, прошелся по комнате, затем продолжал: — Любовь одних меняет больше, других меньше, но и меня она изменила. Когда-то мне нравился запах вербены. Но Эвника предпочитает фиалки, и теперь я тоже полюбил их больше всего — с наступлением весны мы дышим только ароматом фиалок. — Тут он остановился рядом с Виницием и спросил: — А ты? Ты по-прежнему верен нарду?
— Оставь меня в покое! — ответил молодой человек.
— Мне хотелось, чтобы ты пригляделся к Эвнике, и говорю я тебе о ней не зря — возможно, и ты ищешь далеко то, что находится поблизости. Возможно, и у тебя дома, где-то в кубикулах для рабов, бьется преданное, чистое сердце. Приложи к своим ранам этот бальзам. Ты говоришь, Лигия тебя любит? Возможно! Но что ж это за любовь, которая сама от себя отрекается? Разве это не означает, что тут есть нечто сильнее любви? О нет, дорогой мой, Лигия — не Эвника.
— Все это только удручает меня, — ответил Виниций. — Я смотрел, как ты целуешь плечи Эвники, и думал, что, если бы Лигия вот так обнажила для меня свои плечи, пусть бы потом земля разверзлась под нами! Но от одной этой мысли меня охватил такой страх, словно я покушался на весталку или дерзнул осквернить богиню. Да, Лигия — не Эвника, только я различие между ними понимаю иначе. У тебя любовь изменила обоняние, ты вербене стал предпочитать фиалки, а во мне она изменила душу, и я при всей моей порочности предпочитаю, чтобы Лигия была такой, как она есть, чем чтобы она походила на других.
Петроний пожал плечами.
— В таком случае тебе не на кого обижаться. Но я этого не понимаю.
И Виниций лихорадочно подтвердил:
— Да, да! Мы уже не можем понять друг друга!
Наступило опять минутное молчание, после чего Петроний сказал:
— Пусть Гадес поглотит твоих христиан! Они вселили в тебя тревогу, уничтожили смысл жизни. Пусть поглотит их Гадес! Ты ошибаешься, думая, что учение их благодетельно, — нет, благодетельно то, что дает людям счастье, иначе говоря, красота, любовь, могущество, а они называют это суетой. Ошибаешься ты и считая их справедливыми, — ведь если за зло мы будем платить добром, то чем же платить за добро? И вдобавок, если и за то, и за другое плата одинакова, тогда зачем людям быть добрыми?
— Нет, плата не одинакова, но воздается она, согласно их учению, в будущей жизни, а не в земной, преходящей.
— Об этом я толковать не буду, это мы еще увидим, если можно что-то увидеть… без глаз. А покамест они попросту ничтожества. Да, Урс задушил Кротона, у него-то тело чугунное, но все прочие там недотепы, а будущее не может принадлежать недотепам.
— Жизнь для них начинается с приходом смерти.
— Все равно что сказать: день начинается вместе с ночью. Намерен ли ты похитить Лигию?
— Нет, я не могу платить злом за добро, и я поклялся, что этого не сделаю.
— Ты намерен принять учение Христа?
— Хотел бы, но натура моя противится.
— А забыть Лигию ты сумеешь?
— Нет.
— Тогда отправляйся путешествовать.
Тут рабы доложили, что завтрак готов, но Петроний, которому показалось, что он набрел на удачную мысль, по дороге в триклиний стал ее развивать:
— Ты объездил немалый кусок земли, но только как воин, который спешит к месту назначения и не задерживается в пути. Едем с нами в Ахайю. Император пока не отказался от замысла отправиться туда. По дороге он будет всюду останавливаться, петь, собирать венки, грабить храмы и наконец вернется в Италию как триумфатор. Это будет что-то вроде шествия Вакха и Аполлона в одном лице. Августианы, августианки, тысячи кифар — клянусь Кастором! Стоит это увидеть — ведь мир не видывал ничего подобного.
Он лег на ложе у стола, рядом с Эвникой, и, когда раб надел ему на голову венок из анемонов, продолжал:
— Ну что ты повидал на службе у Корбулона? Ничего! Разве ты осмотрел как должно греческие храмы, в отличие от меня, который почти два года переходил от одного проводника к другому? Побывал ты на Родосе[281], где стоял колосс? Видел ли в Панопе[282], в Фокиде, глину, из которой Прометей лепил людей, или в Спарте снесенные Ледою[283] яйца, или в Афинах знаменитый сарматский панцирь из конских копыт[284], или на Эвбее[285] корабль Агамемнона, или чашу, формою для которой послужила левая грудь Елены? Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волос Исиды, которая вырвала его, скорбя по Осирису?[286] Слышал ли стоны Мемнона[287]? Мир велик, не все кончается в квартале за Тибром! Я буду сопровождать императора, а когда он решит возвратиться, я его покину и отправлюсь на Кипр — моя златоволосая богиня хочет, чтобы мы вместе принесли в Пафосе на алтарь Киприды пару голубей, а ты должен знать — чего она пожелает, то исполняется.
— Я твоя раба, — молвила Эвника.
А он, положив свою увенчанную цветами голову ей на грудь, улыбаясь, сказал:
— Стало быть, я раб рабыни. Я восхищаюсь тобою, божественная, от головы до пят. — И обратился к Виницию: — Едем с нами на Кипр. Но помни — перед этим ты должен побывать у императора. Нехорошо, что до сих пор ты этого не сделал, — Тигеллин может использовать это во вред тебе. Правда, личной ненависти к тебе у него нет, но любить тебя он не может уж потому, что ты мой племянник. Мы скажем, ты был болен. Надо еще подумать, что ты ответишь, если император спросит тебя про Лигию. Лучше всего махни рукой и скажи, что она была у тебя, пока не надоела. Он это поймет. Скажи ему также: мол, болезнь держала тебя дома, и жар усилился от горя, что ты не можешь быть в Неаполисе и слушать его пение, а выздороветь тебе помогла лишь надежда его услышать. Не бойся преувеличений. Тигеллин хвалится, что придумает для императора нечто не просто великое, но колоссальное. Боюсь все-же, как бы он под меня не подкопался. И еще опасаюсь твоего нрава.
— А ты знаешь, — сказал Виниций, — что есть люди, которые не боятся императора и живут так спокойно, будто его на свете нет?
— Я знаю, кого ты назовешь: христиан.
— Да, они одни такие! А наша жизнь, что она, как не постоянный страх?
— Надоел ты мне со своими христианами! Они не боятся императора, потому что он о них, возможно, и не слыхал, во всяком случае, ничего о них не знает, и они его интересуют как прошлогодний снег. А я тебе говорю, они недотепы, ты и сам это сознаешь, и если твоя натура содрогается от их учения, так это потому, что ты чувствуешь их никчемность. Ты вылеплен из другой глины, а потому забудь о них и мне о них не толкуй. Мы умеем жить, сумеем и умереть, а что они умеют — неизвестно.