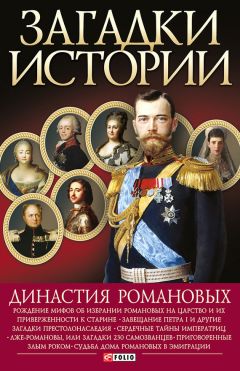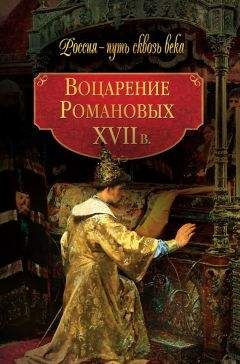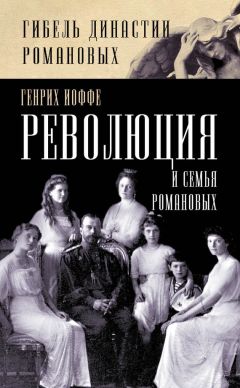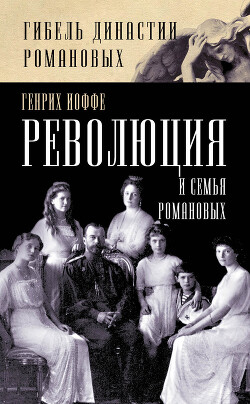Михаил Федорович - Соловьев Всеволод Сергеевич
Патриарх ласково взглянул на сына, а тот низко опустил голову и сидел неподвижно, облокотясь на резные локотники кресла, только его лицо покрылось румянцем.
— Так ли, сынок? — повторил патриарх и, помолчав, сказал: — Сделаем клич, соберем красных девиц и посмотрим, какая любше покажется…
Михаил вздрогнул и невольно сделал отрицательный жест рукою.
Патриарх пытливо посмотрел на него, и вдруг на его лице мелькнула лукавая улыбка. Он слегка нагнулся вперед и спросил:
— А может, у тебя и есть что на сердце? А?
И вдруг Михаил соскользнул с кресла, стал на колени и прижался лицом к руке отца. Его сердце, истомленное тайной печалью, вдруг раскрылось, и он смущенно заговорил:
— Есть, отец, есть! Томлюсь по ней, по моей Анастасье Ивановне, и оттого не хочу на иной жениться, а на ней не смею!
— Встань, встань! — ответил патриарх, наклоняясь и беря сына под локти. — Садись и говори толком. Кто она и почему не смеешь? Про кого говоришь?
Михаил поднялся, сел и, оправившись, заговорил:
— Задумал я, батюшка, пожениться и клич кликнул. Сделал я смотрины, и больше всех полюбилась мне дворянская дочь, Марья Хлопова по имени. И взял я ее с родней ее наверх, с ними в Троицу ездил, в Угреше были. И так мне сладостно на сердце. А там вдруг занедужилась Анастасия (матушка приказала ее величать так), посылали лекарей к ней а ей и того хуже. Сказывали мне Бориска и Михалка Салтыковы…
— Смерды лукавые! — гневно перебил его патриарх.
— Сказывали они мне, что ей сильно недужно и болезнь у нее вредная для нашего рода…
Михаил тяжело перевел дух.
— Ну? — произнес отец.
— И созвали мы собор, и на нем порешили, что непрочна Анастасья Ивановна нашей радости и… свели с верха…— тихо окончил он.
— И куда же?
Михаил поднял на отца взор, в его глазах сверкнули слезы.
— А потом я дознался, что Хлоповых в Тобольск угнали на прожиток. Так приказал я в Верхотурье их перевести, а теперь они все в Новгороде — сама она, мать, отец и дядя ее!… Тяжко мне, батюшка, — заговорил он снова дрожащим от слез голосом, — и нет мне покоя, и все думается: может, так что было, случаем!
Филарет встал с кресла и быстро, юношескою походкою заходил по палате. Его лицо сурово нахмурилось.
— Так, так! И очень можно, что один оговор тут, — произнес он. — Эти твои приспешники, Михалка с Борискою, на все пойдут. Им своя радость, а не государева нужна! Так!… А ты все еще любишь ее? — спросил он вдруг.
Михаил вспыхнул и потупился.
— Люблю!
— Ну, так тому и быть! -решительно сказал патриарх и остановился.
Михаил вопросительно глядел на него.
— И правды, и чести, и твоей любви ради, — торжественно произнес Филарет, — сделаем опрос, правды дознаемся. Спросим Бориску с Михалкой, почему они тебе такое сказали, лекаришек спросим, самое Анастасьюшку, и, если истинно она в радости тебе непрочна, так и будет. Что же, на все воля Божья! А коли облыжно все это, пусть твои приспешники ответ держать будут!
Лицо Михаила просветлело. Он радостно воскликнул:
— Батюшка, душу мою ты разгадал! Сколько раз собирался я сам это сделать, да все матушка отсоветовала.
— Ну а теперь и отец и патриарх тебе разрешает, и сам спрос вести будет! — сурово ответил патриарх, и его лицо приняло жестокое выражение.
— А кого из бояр на допрос выбрать? — робко спросил Михаил.
— Выберем! Ты да я допрос чинить будем, а при нас пусть твой дядя, а мой брат, Иван Никитич будет; без Шереметева нельзя быть: он аптекарский приказ ведает. А еще… еще… -Князя Черкасского позовем! Он никому не правит.
— Ну, ин быть по-твоему. И сейчас делать станем! — Патриарх быстро подошел к столу, взял свисток и свистнул. В то же мгновение на пороге показался отрок. — Пошли дьяка к нам, — сказал отроку Филарет.
На место отрока явился думный дьяк, по тому времени лицо сановное. Он упал на колени и трижды земно поклонился царю, потом так же патриарху и, не подымаясь, ждал приказа.
— Встань, — сказал Михаил, — и что тебе наш батюшка-государь накажет, то пиши!
Дьяк поднялся, тяжело переводя дух, и осторожно подошел к столу.
— Пиши грамоты на боярина Ивана Никитича да на князя Ивана Борисовича Черкасского, да на боярина Федора Ивановича Шереметева. А в тех грамотах отпиши им, что мы, государи, задумали сыск сделать про то, чем девица Хлопова непрочна стала и занедужилась, а при том сыске им, боярам, при нас находиться.
Дьяк слушал с раболепным подобострастием слова патриарха; и по мере произнесения их любопытство, недоумение и страх по очереди отражались на его лице.
— Ну, пиши.
Дьяк поклонился и, перекрестившись, сел к столу.
Наступал трапезный час. Явились бояре, окольничьи и, окружив патриарха с царем, чинно пошли в столовую палату, а дьяк остался у стола, старательно выводя буквы и немилосердно скрипя пером. Пот выступил на его висках по мере писания грамот.
«Ну, — думал он вздыхая, — пропали наши головушки, не чую добра я с этого сыска для моих бояр. Для чего сыск? Непрочна», — и весь сказ. Так на соборе решено было».
Он отложил перо, полез за пазуху, вынул тавлинку [95] и взял огромную щепоть табака.
«Ачхи!» — раздалось на всю палату, и дьяк, испугавшись такого шума, спешно схватил перо, пригнул к плечу голову и снова стал выводить буквы.
Смутное предчувствие опасности почуяли и братья Салтыковы за царской трапезой. Они с прочими боярами сидели за столом на верхнем конце. Царь и патриарх сидели за особым столом на возвышении. Справа и слева от царя стояло двое часов немецкого изделия. Кушанья подавались чередом, наливали мед и вино, и во все время царь ни одного блюда, ни одной чаши вина не отослал ни тому, ни другому из братьев Салтыковых, еще недавно встречавших с его стороны ласку. Смелые и развязные, они притихли к концу трапезы, видно, что и прочие бояре заметили такое охлаждение к ним, и задумчивые пошли из царских палат.
— Я к матушке, — сказал Михаил.
— И я следом, — ответил Борис.
Оба они, сев на коней, степенно поехали по улицам, опустив головы и все яснее чуя над собою беду.
Старица Евникия провела их к смиренной игуменье, царской матери, и, вздыхая словно в смертельной боли, сказала:
— Вот они и сами, матушка-государыня! Опроси!
— Встаньте, встаньте!-ласково сказала Марфа, наотмашь благословляя лежавших ниц пред нею Салтыковых.
Они поднялись и по очереди поцеловали ее плечо.
— Ну что с вами? Что сумрачные в нашу обитель приехали? Чего мать Евникию опечалили? Поди, патриарх грозен?
Михайло низко поклонился и, вздохнув, ответил:
— Не знаю, что и молвить, государыня. Обойдены мы сегодня с братом, и то все заметили. Государь не жаловал нас ни чарою, ни хлебом, ни взглядом, ни словом, и все сидел сумрачен.
— И всегда так бывает, когда он с патриархом вдвоем поговорит. Докука на него находит с того, — вставил Борис.
— Ах, а сколь прежде был лучезарен и радостен, — вздохнув сказала их мать, — и к тебе-то, матушка-государыня, по три раза на дню наведывался, а то бояр с запросом посылал. А ноне?
Марфа нахмурилась. Ее маленькое лицо с тонкими губами приняло жестокое выражение.
— До времени, до времени, — прошептала она, — нет такой силы, чтобы материнское благословение побороло. Мой сын, я его вскормила, взлелеяла, я его на Москву привезла, а не он! — резко окончила она и, смутясь своей вспышки, стала торопливо перебирать свои четки и шептать молитвы.
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! — раздался за дверью тонкий голосок.
— Аминь! — ответила, быстро оправляясь, Марфа.
В горницу вошла миловидная черница и, сотворив метание [96], сказала:
— Дьяк думный Онуфриев с вестью к тебе, государыня… повидать просит.
— Зови!
Братья Салтыковы переглянулись между собой и отодвинулись к стенке.
Дверь в комнату тихо отворилась, и в комнату на коленях вполз дьяк. Он раз десять ударил лбом в половицы, пока Марфа небрежно благословила его, и потом сказал: