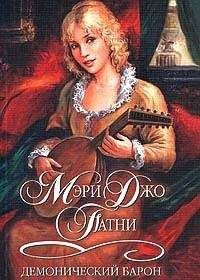Франтишек Кубка - Улыбка и слезы Палечка
Но проповеди магистра Рокицаны в Тыне были полны святости и красноречия, и Прага оглашалась торжественными словами его о боге, вручившем власть над делами нашими сыну этой земли, чтоб не страдала церковь, которая чтит чашу и компактаты.
Много говорилось в эти весенние дни о короле новом, живом, и о предшествующем, мертвом. О прежнем шептали, что он любил новую королеву тайной и мучительной любовью, что за Йоганку он отдал бы четырех французских Майдаленок. И толковали о длинных волосах королевы Йоганки и ее пышной груди, к которой взгляды юного Ладислава льнули с восторгом и нескрываемым вожделением. При этих нежных подробностях старухи на завалинке облизывались, а иные даже вздыхали. Потом заходила речь о том, что этого наш правитель, а теперешний его величество король не потерпел бы, так как сам — мужчина из себя видный, на которого приятно глядеть. Что тучен немного, так не беда, — это только делает его почтенней и солидней.
— Что подумали бы немцы, кабы король наш был без брюха? Они стали бы говорить, что у нас голод. Король должен фигурой своей оказывать, что земля наша богатая, хлеба в ней завались!..
— А мяса-то, сударь, мяса-то! — отзывались соседи, и разговор перекидывался на теперешнюю дешевизну, небывалую за много веков. Король Голец принес дешевизну в страну, и король Иржи ее сохраняет. Благоприятное время наступило в этой измученной, преследуемой несчастьями земле!
— Кабы не господня воля, не было бы так, — слышалось в темноте. — А еще говорят — мы еретики и безбожники.
В Анделовых садах рокотали соловьи, и соловьи рокотали в лесочке близ святого Лаврентия, и даже в самом центре Праги, в саду Кралова двора, где жил избранный король со своей прекрасной пани королевой и детьми. Их было несколько — сыновья и дочери, но до сих пор они мало показывались. Шел слух, что одна из дочерей скоро станет венгерской королевой и что Матиаш ее любит до безумия, хоть она еще слабенький и невинный ребенок; потом, что есть сын, которого вроде как прячут, — пан Бочек, — и что он, видно, слабоумный; и есть еще мальчики и девочка по имени Здена, и что пан Иржи живет счастливо у себя в доме, где у него много богатств и даже ковры из далекой Аравии или какой-то там Азии, что ли… И держит он повара-француза, как великий Карл, император, и шута, который — настоящий рыцарь, и на разных языках говорит, и скорей всего — колдун, потому что умеет приручать птиц небесных, коней смирять и заставлять людей, чтоб они исполняли, что он захочет. Но что эту силу свою он пока не пускал в дело. А рассказывал про это один человек из Табора, Матеем звать, который прежде слугой его был, когда он в Италии учился.
Матей этот приехал на выборы его величества, короля Иржика, в Прагу. На площади здорово орал, а потом тоже здорово по корчмам пил и рассказывал про свои приключения на службе у пана Яна Палечка в Падуе, в Венеции и в других местах. Через два дня после выборов его нашли во рву у Новых ворот, весь лоб в синяках и с большой шишкой на голове. Неизвестно что с ним произошло, но ясно, что где-то в Новом Месте он подрался с бирючами, которые знать не хотели о том, что Табор есть Табор и сам король Иржик не может ему приказывать. И что Бискупец с Корандой — святые люди, хоть этот самый Рокицана и советует в тюрьме их держать, а пан Иржик, у которого в жилах панская, а значит — липанская кровь, этого совета слушается и держит их у себя в гостях, в подвалах своих замков.
Это были речи неподходящие, и Матей, по прозванию Брадырж, за них поплатился… Потому что сыты мы по горло такими разговорами и устали от всяких этих Коранд, и адамитов, и как еще там эти нечестивцы называются… Тут в темноте кто-то задал вопрос бабке Сезимовой, не из того ли она самого Усти[142] и не бегала ли в молодости в чем мать родила. Спрашивающий прибавил, что он — за адамитство, но только в определенном возрасте. Старух он не хотел бы видеть бегающими так ни по городу, ни по лесу.
— И стариков тоже! — послышался дерзкий женский голос, и снова смех огласил весеннюю ночь, из тех, что предшествовали коронации гуситского короля…
Итак, рыцарь Ян Палечек стал шутом короля Иржи. Но шутовских обязанностей он не нес. У него даже не было шутовского наряда, он не усвоил ни одной шутовской повадки, не устраивал никаких проделок и не проявлял мудрости под видом дурачества.
Король Иржи любил своего шута за его знание итальянского и латинского языков. Любил за то, что тот читал книги, которых король не понимал. За то, что он видел свет, в котором королю побыть не случилось. За то, что он понимал музыку и пенье, оставшиеся королю недоступными. За то, что его любили дети пана Иржика, а Иржик считал, что тот, кого любят дети, добрый человек. А главное, Иржик слышал в словах его свой собственный внутренний голос. Что он сам в себе заглушал, то шут высказывал. Чего боялся, то шут называл настоящим именем. Рыцарь Ян из Стража стал живой совестью пана Иржика из Подебрад.
В последние апрельские дни этого счастливого 1458 года в Прагу приехали два венгерских епископа. Это были Августин, епископ рабский, и Винцент, епископ вацский. Августин — невысокий, щуплый. Маленькая черноволосая голова его с большой тонзурой сидела на тонкой шее, беззубый рот все время шевелился, словно в беззвучной молитве. Прямо на темени — красная бородавка. Ему было лет сорок. Его считали любимцем кардинала Карваяла, находившегося в Будине и проводившего оттуда политику святейшего престола в этих непонятных варварских странах… Другой был громоздкий, высокий, тучный. Руки имел большие, как у мясника; могучая шея его поминутно наливалась кровью. На животе у него блестел крест тонкой византийской работы, подаренный ему покойным королем Ладиславом, который привез этот крест из Белграда. Одновременно он получил от Ладиславова противника, прекрасного Гуниади, перстень, тоже византийской работы, и теперь верно служил брату Гуниади — Матиашу и, по Матишеву зову, приехал с братом своим рабским в Прагу, чтобы как-нибудь залучить паршивую овцу Иржика в овчарню господню. Кардинал-легат Карваял благословил их в дорогу, и хоть ни словом не упомянул о их миссии, южные глаза его горели таким огнем, что епископы все поняли.
Теперь они сидели днем наверху, в кремле, у капитула, утром служили обедню в храме святого Вита, в полдень обедали вместе с капитулом, а вечера проводили у короля Иржика. Король Иржик был тороватый хозяин, и его повар-француз славился своим искусством Королева Йоганка присутствовала при беседах и очаровательно приседала чуть ли не до полу, здороваясь с ними и прощаясь. Вообще это была прирожденная королева!
Речь шла о разных предметах, в частности о турках. Турок стучался железным кулаком в ворота христианского мира. Тут и там он эти ворота уже проломил и кое-где даже перелез через стены. У папы Каликста были свои виды на Иржи. Он даже готовил ему золотую розу, служившую наградой за государственную доблесть, и золотой меч! Он рассчитывал, что Иржи вскоре выступит против турок. А чешская военная мощь была известна. Много народу, и храброго народу, живет в чешском королевстве, и опыт этих людей еще даст себя знать в боях с неверными. Отчего не привлечь богатого и мужественного короля к борьбе за христианство, когда ты кровно заинтересован в том, чтоб отвести турецкую опасность от христианских стран? А поэтому можно позволить чехам некоторое своеобразие в том или ином отношении, лишь бы вернуть их к покорности святой церкви.
И тут вдруг Иржи обратился за помощью к Матиашу! Подумать только: король еретиков позвал правоверных апостольских епископов, хотя имеет своего собственного, самозванного гуситского архипастыря Яна Рокицану! Как хорошо, что церковь не послала до сих пор архиепископа в эту страну твердолобых отступников! Теперь во главе ее стоит Иржик и растерянно смотрит вокруг. Пан Тас из Босковиц в качестве епископа оломоуцского еще не посвящен в сан, а вратиславский Йошт из рода Рожмберков[143] пальцем не пошевелит. Рожмберк не торопится. Считает, что жаль тратить святое миро на еретическую голову!
Допоздна засиживались епископы у чешского короля. После разговоров с ними Иржик был всегда мрачен и молчалив.
Как-то раз вошел в такую минуту к нему королевский шут со словами:
— Вижу, ваше величество ведет беседы о предметах церковных, хоть знаю, что ваше величество теологию никогда не любил и даже не владеет латынью. Ваше величество с трудом говорит по-немецки с двумя епископами — одним большим и толстым, другим — щуплым и тонким. Кажется, беседы эти не идут вашему величеству на пользу, хоть ее величество королева после них расцветает.
— Не мешайся не в свое дело, Ян!
— Могу уехать, ваша милость, у меня где-то в горах замок есть. Правда, не мой, но там у меня ложе и на нем медвежья шкура. Буду читать итальянские книги и вспоминать итальянских правителей, которые, сидя под самыми стенами Рима, не боятся папы.