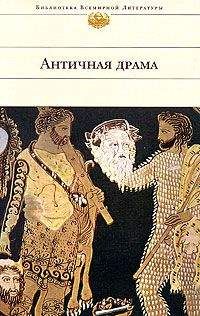Анри Бошо - Антигона
Я не должна была падать, но упала. Больно, я с глухим ужасом шевельнула рукой, ногой — все цело, я могу встать, но мне не встать.
И почему мне обязательно нужно вставать, откуда идет этот приказ? Пол в пещере холодный, влажный, но на него можно опереться, ты имеешь право не вставать, ждать. Потом встанешь, если захочешь. Все здесь жесткое, куда ни ткнись, все, кроме… Кроме этого звука — мне кажется, что я слышу воображаемую музыку: благодаря ей, а также восхитительным теням, что отбрасывают факелы на стены пещеры, мне становится не так одиноко.
Ты дотащишься до стены, ты узнала ее: вся твоя жизнь была сплошной стеной. Ты приподнимаешься, цепляясь за выступы, — теперь можно сесть, перевести дыхание, растянуться на алом плаще капитана. Смотри-ка, Стентос даже сложил Исменин шарф так, чтобы на него можно было положить голову. Стентосу и стражникам не хотелось, чтобы я умирала в темноте, и эта забота греет и поддерживает меня. Я, наверное, и музыку слышу из-за этого света факелов и их тепла. Музыка эта не может пересилить одиночества, но и оно не может из-за нее полностью завладеть мной.
Как трудно поверить в то, что меня больше не будет, что я исчезну, но одиночеству я не сдамся, оно не сумеет все опустошить вокруг меня. Я еще, конечно, услышу Стентосов крик, он будет предупреждением, что истек первый час моего подземного заточения. И снова до меня долетает эта отважная мелодия; музыка наступает, чтобы защитить меня от невыносимости отчаяния, я не уверена даже, что слышу ее, — может быть, это не музыка вовсе, а надежда.
На мгновение передо мной появляется лицо Диотимии; его уже нет, но я узнаю его в этой мелодии, которую я когда-то слышала.
Этот напевающий голос обращается ко мне на ты, и принадлежит он тоже мне. Постарайся не кашлять, хочет сказать этот голос, задержи дыхание, растянись, полностью расслабься. Этот голос отвечает на звучание имени Диотимии, я знаю его, он родился во мне сам собой, родился, пока я смотрела, как живет Диотимия, пока я следовала за Эдипом, слушая его сердцем. «У тебя нет больше матери, Антигона, — сказал он однажды, — у меня тоже, нам с тобой нужно стать для себя самих матерью». Я не уверена, что действительно поняла эти слова, тем не менее они стали частью меня, стали этой внутренней матерью, которую К. открыл во мне и вызвал к жизни. Он считал, что такое есть во всех, но во мне чувствуется сильнее, чем у других, во мне больше этого материнского. Именно поэтому, сказал он, перед лицом великих испытаний всегда будешь знать, что делать. Он произносил это со своей немой улыбкой, она пламенела у него на устах, как жизнь, и скрывалась одновременно — так улыбается сама музыка. «Так улыбается раб, — бормотал он, — раб, которого освободил Клиос».
Это материнское, о котором говорил Эдип, родилось во мне; впрочем, прежде всего я была дочерью Иокасты и поэтому материнское не заявляло во мне о себе так громко. Неужели поэтому К. думал, что я оставлю в людской памяти трагическое и прекрасное воспоминание, но это воспоминание о том материнском, что было во мне, почти не оставляет мне надежды, что я прижму к себе живого младенца, для которого я сама буду всем.
Не будет никаких детей: придет Гемон, но он должен опоздать. Если Гемон должен спасти меня с оружием в руках, то я отказываюсь от Гемона. Не надо крови для Антигоны, ты сказала это, ты не хочешь, чтобы тебя защищали. Успокойся, Антигона, ты вся в поту и в слезах. Утри лицо шарфом, накройся алым капитанским плащом. Царям нужны убийцы, а этот капитан, он глава убийц, но ты заставила его вместе с его людьми протянуть тебе руку помощи. И все из-за твоего вопля, из-за твоего униженного нищебродского крича, который затронул в них ту часть детского, которая, казалось, отрицалась всей их жизнью.
Мне тоже, как и им, как моим братьям, нравилось оружие. Это прошло у меня на дороге: невозможно иметь эту смешную гордыню и жить среди бедняков, просить у них милостыню. Все эти годы я никак не могла понять, что труднее — ухаживать за слепцом или воспитывать детей. Я так и не узнаю ответа. Для нечеловеческого Эдипова приключения я была слишком мала, я просто семенила за ним. И десять лет побиралась! Ни мои братья, ни Исмена, ни Иокаста не смогли бы так.
Взгляни вверх, Антигона, видишь, там торчит камень, на который ты, как Иокаста, смогла бы набросить петлю из своего белого шарфа. Когда она услышала, что Эдип всенародно открыл правду, она вернулась во дворец, бросилась на постель и увидела бронзовый крюк, на который укрепляли светильник. Он отбрасывал лишь слабый и мягкий свет. По вечерам, когда они с Эдипом оставались, наконец, одни, она садилась или ложилась на кровать под этим светильником. Чтобы очаровать Эдипа, она пела ему, рассказывала какую-нибудь волшебную сказку, которую извлекала из своей бесконечной памяти. Потом он рассказывал ей о Фивах, о море, о кораблях и приключениях небожителей или тех, кто населял подземные пространства, и они узнавали в них себя. В тлеющем свете лампы тела их становились еще прекраснее, тогда они начинали любить друг друга. Как тебе хотелось увидеть их в этот момент, и твои братья, ненасытно, как всегда, хотели этого, но у вас это никогда не вышло. А Исмене, конечно, удалось, она была самой маленькой и сказывалась больной, чтобы ее уложили у них в комнате. Поэтому она и унаследовала от нашей матери эту загадочную улыбку, которая кажется обещающей все в своей опасной неуверенности, которая обещает без размышлений и слов. Это улыбка той, кто, не скрывая этого, дает почувствовать существование тайного знания и простой тайны бытия. А ты, кто где только не говорила с людьми, ты всегда была лишь нескладной дылдой, которая не знает, что важно на самом деле.
Моя жизнь действительно всегда была окружена какой-то дымкой незнания, той дымкой, в которой я в конце концов и задохнусь. Мне бы надо погасить факелы, чтобы они больше не дымили, но не этого мне хочется, мне, наоборот, хочется зажечь те, что вот-вот потухнут. И еще другие — пока на это у меня хватит сил.
Меня опасно качает, я падаю, идя от одного факела к другому, но как хорошо, что удалось зажечь еще два — ради этого стоило падать, потому что теперь могила, где я расстанусь с собой, будет вся залита светом и заполнена дымом — и радостью. Но не в алый цвет я вступаю, как в храме Клиоса. Я вхожу в тайну света, иду по его дороге. Я вспомнила о том костре, что поглотил Этеокла и Васко, о том пламени, что соединило в своем чреве эти прекрасные человеческие тела и белого скакуна.
Вот ты и снова легла на капитанский плащ, он алый, и не будет заметно ни твоих ран, ни крови, потому что ты вся исцарапалась. Ты нашла для себя место, и живая ты его уже не покинешь. Твоя смерть — это преступление против справедливости, но тем не менее она законна, печально законна, как Креонтова мысль. И ты не можешь не признать, что твоя смерть всех устраивает. Ты не соглашаешься: всех, кроме Гемона, думаешь ты. Тем не менее ты не хочешь, чтобы он освобождал тебя, — только не ценой кровопролития. Разве, думая так, ты не подражаешь самой смерти, ее желанию покоя, мира, неподвижности? Разве жить, несмотря ни на что, это не мужество?
Стентос три раза выкрикнул мое имя, как и обещал мне. Он делает это, наверное, очень громко, но до меня доносятся лишь глухие звуки. Прошел час, всего час, как я в этой пещере. Как радостно услышать еще человеческий голос, голос того, кто любит меня. Перед пещерой вокруг Стентоса столпились мужчины, которые считали себя моими врагами, но теперь надеются, что увидят, как я выхожу из нее живой и здоровой. Я попыталась отвечать, но у меня из горла вырвалось только какое-то мычание. Когда Эдип узнал о своих преступлениях, он выбрал жизнь и был прав, но Иокаста тоже была права. Она должна была остаться той, кем была, и умереть, как царица. Она не могла остаться с Эдипом, последовать за ним по дороге, умоляя о куске хлеба. Нет, нет, она не могла изменить себе, поменять свой незабываемый лик. Она понимала, что Эдип должен жить, должен выжить, и что ему для этого понадобится помощь. Но не сыновей — они слишком заняты собой и очарованы друг другом. Тогда это должна была быть одна из дочерей! Но разве Исмена может просить милостыню? Сердце сжимается. Оставалась я — кроме меня просто было некому.
Именно это увидела Иокаста своим царским взором в час беды и решительно бросилась в смерть, для того — чтобы Эдип вместо нее получил в полное свое распоряжение дочь и сестру. Нищебродку, которая позволила бы ему дойти до конца своего ослепления, позволила бы идти и после смерти, как он это делает в нас.
Мать — именно из-за нее я не смогла принадлежать Клиосу и не смогу связать свою судьбу с судьбой Гемона. Я не смогла ничего крикнуть в ответ Стентосу, но меня начала уносить куда-то слабая мелодия; мне кажется, я начинаю слышать какой-то голос, который похож на мой. Это сон, или я уже начала бредить?
Ты не бредишь, взгляни на тот камень, что торчит из стены. Он совсем близко к тому бронзовому крюку, благодаря которому Иокаста ускорила свою смерть, оставив так мало пустого места. Там, где был светильник и свет ее тела, осталась только небесная яма ее смерти, в которую и устремился Эдип — не для того, чтобы последовать за ней, но для того, чтобы не потеряться.