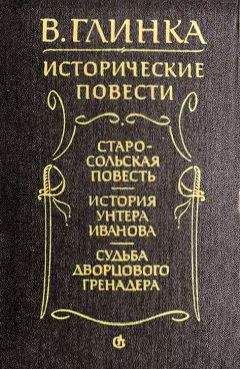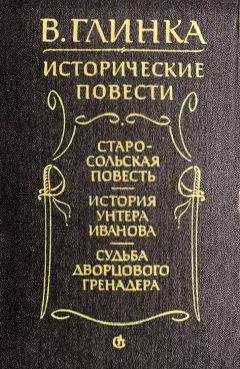Владислав Глинка - Повесть о Сергее Непейцыне
— Ты чего, зачем?
— Уезжать надобно, Сергей Васильевич. Главный доктор сказал, нельзя в холоду вам лежать. Хорошо, Фома в первую ночь семь лестниц скрал, а дальше что? В крепости все дома покойниками завалены, а которые получше, начальники важные заняли. — Филя подошел и присел на корточки у постели. Как же он постарел! Все лицо в морщинах. — Михаило Матвеич в Херсон советуют. Фома возок на полоза нонче ставит, чтоб вам покойней…
— Филя, я бы поел чего-нибудь…
И вдруг Филя захлюпал, припав к подушке Сергея.
— Чего ты?.. Ну?..
— Лекарь сказал, — выговорил Филя, — коль есть попросите, значит, живой будете…
Херсон
Спокойная квартира. Настоящее и будущее. Венецианское золото
Мартовское солнце согнало снег, апрельское высушило землю. На шестой неделе поста деревья опушились первой зеленью, и Филя открыл окна. С этого дня Сергей перестал жить в четырех стенах, к нему ворвалась весна. До сих пор все лежал на кровати с короткими перерывами, когда Филя перестилал постель, а он перебирался на сундук рядом. Теперь же, как просыпался, так, опираясь на Филю, в одном халате перепрыгивал к креслу у окна и то читал, то смотрел на двор, а то, закрыв глаза, подставлял лицо солнцу и слушал доносившийся с верфи перестук топоров, напоминавший счастливую весну, когда дяденька начинал в Ступине постройку.
Флигель, где жил Непейцын, был не мазанковый, как другие домики той же улицы, а основательно строен из здешнего желтоватого камня. Из того же камня сложен и барский дом, что стоит в глубине двора, и даже конюшни, каретник и людская на другой его стороне, против флигеля. Хозяин усадьбы, инженер-подполковник Леонтович, строил ее два лета, зимой сдал флигель Филе, а сам уехал в Киев, выдавать замуж старшую дочь. Пока же все имущество Леонтовича стережет дворник, отставной капрал Тихон. Он, как и Сергей, безногий, изувеченный под Очаковом, только в первые дни осады, и отпущенный в отставку на «свое пропитание». Тихон ковыляет по усадьбе на деревяшке — нога отрезана ниже колена — и передвигается лихо, с прискоком. А если не метет двор или не поливает посаженные прошлое лето в саду за домом деревья и кусты, то сидит в каморке за стенкой, около которой у окошка устраивается Непейцын, сапожничает да мурлыкает солдатские песни. Чаще других выводит заунывную:
Убежал от пушек — дают крест златой…
Оторвало ногу, так ступай домой.
Что же делать станешь, коли дома нет?
Вот твоя награда за осьмнадцать лет.
Сергей раньше не слыхивал этой песни. Правда, при офицерах такие не поют. А может, Тихон сам ее сложил? Восемнадцать лет он как раз солдатствовал. В первую турецкую воевал, потом в Херсоне крепость, дома начальникам строил и от болезней чудом не помер, — как сказывают, тысячи солдат и там помирали. А под Очаковом сразу ноги лишился.
Тихону еще повезло — в дворники взял подполковник, потому что раньше на постройке этого дома работал и чем-то угодил. Вот и есть каморка с дровами и жалованье дворницкое — полтина в месяц. А многие очаковские инвалиды тут, в Херсоне, Филя говорит, в обтрепанных мундирах на церковных папертях побираются Христовым именем, а другие по дворам просят любой работы за харчи.
Офицерское дело — другое. Сергею многие, наверно, позавидуют: остался жив после такой раны и всего, что было следом. Конечно, возить при себе слугу — привилегия всех господ. Но что слуга оказался такой, в том его, Сергея, счастье. Филя выходил, вытащил из небытия и во второй раз так же, как во рву из-под груды трупов. Едва довезли до Херсона и встали на эту квартиру, как началась новая болезнь. Продуло, когда тянулись по степи. Лежа на морозе столько часов, не простыл — грели, должно, едва не задушившие, медленно остывавшие мертвые турки, а в санях, закутанного, прохватило. На неделю потерял память и очнулся с такой слабостью, что едва шевелился. Филя кормил, поворачивал, обмывал его, как младенца беспомощного. Но боль в обрубке все-таки несколько притупилась, рана не гноилась, а как начал жадно, много есть после болезни, то стала понемногу закрываться. Правда, теперь иногда мучительно чесалась и ныла несуществующая, отнятая нога. И еще важное: когда очнулся и вспомнил, что было до штурма, оно показалось прошлым. Будто побывал, умирая, у мифического Стикса, хлебнул его воды, а когда возвратился к жизни, то уж переболело, чем мучился раньше, — смерть Осипа, замужество Сони. И во многом будто заново увидел мир: радостно что на заре поют птицы, что днем греет солнце, что вкусно жевать поданное Филей и впереди близкая встреча с дяденькой… А что еще впереди?
Об этом чаще всего и думал теперь. Старый лекарь, который навещал Непейцына раз в неделю, сказал еще в феврале, что через месяца два станет ходить на костылях, а через восемь после ранения и на деревяшке. Сергей повторно его допрашивал, не сказал ли только для ободрения, и услышал, что может твердо надеяться передвигаться на деревянной ноге. Но тогда же сказано, что прежде надо «нарастить мяса на костях», вылечиться начисто, а потом уж строить планы. Но разве можно их не строить? И план был самый простой: ехать в Луки, пожить там вволю, потом в Петербург и там проситься на нестроевую должность, с которой может справляться и на деревяшке. Вон Тихон дрова рубит, воду из колодца таскает, двор метет, а в два раза старше Сергея.
В марте, как только смог присесть к столу, тотчас описал дяденьке все случившееся (до того писал уже Филя) и Михайле Матвеевичу, что жив и просит совета по части дальнейшего. Недели через две пришел ответ, писанный в Елисаветграде, куда вернулась главная квартира из взорванного, разрушенного Очакова. Художник писал, как обрадовался вестям от Непейцына, и прежде других новостей сообщал, что по представлению бригадира Мейендорфа Сергей награжден чином подпоручика и орденом Владимира IV степени. Конечно, артиллерийская канцелярия должна бы его о том известить, но не было ведомо, где он и жив ли. Теперь же приняты меры, чтобы скорее порадовать самим орденским знаком. Мейендорф собственно представлял его к «Георгию», но светлейший уже раздал сего ордена слишком много, и ему достался Владимир: он хотя почитается крестом за гражданскую службу, но все почетен.
Действительно, через неделю комендантский адъютант принес Непейцыну пакет за пятью печатями, в котором находился крест и патент на чин за подписью князя Потемкина. К ним был приложен ордер на получение в Херсоне жалованья «отчисленному от фрунта подпоручику» за последнюю треть прошлого года по прежнему чину, за первую треть 1789 года уже по новому и еще за целые полгода, данные царицей в награду всем участникам штурма. Непейцыну оставалось только послать Филю за вином и просить адъютанта выпить бокал за нового кавалера, что и было сделано с явным удовольствием.
Конечно, Сергей горячо благодарил Михайла Матвеевича и получил еще одно обстоятельное письмо с советом не спешить из Херсона, дождаться возвращения из Петербурга на юг светлейшего, а пока прислать в главную квартиру просьбу о выдаче аттестата с рекомендацией в Военную коллегию. Иванов писал также, что царицей уже утвержден проект особого наградного креста участникам штурма Очакова, который чеканится на Монетном дворе и будет скоро раздаваться. Такой крест Сергею надобно получить не только потому, что он почетный, но и потому, что, сказывают, даст три года старшинства в службе.
Выходило — надо терпеливо ждать в Херсоне накопления сил, аттестата и креста со старшинством. Вот он и сидел перед окошком, слушал, как брякают небольшие колокола ближней греческой церкви, как стучат топоры, как щебечут птицы. И что скрывать — с гордостью посматривал на мундир, повешенный поблизости. Красный с золотом эмалевый крестик красиво выступает на черном бархате лацкана. Нет, он не убежал от пушек, крест ему дали за честно пролитую на штурме кровь. Но все-таки несправедливо выходит. Ему, офицеру, — и чин, и орден, и денег сколько, а Тихону, который тоже ногу потерял, ничегошеньки…
Те солдаты, которые в штурме участвовали, хоть добычу важную захватили. Благодаря штурму и сам Сергей сделался очень богат. Когда пришел в себя после болезни и стал соображать о делах, то, понятно, обеспокоился, как у Фили с деньгами. Ведь расходы были немалые — лекарям сколько платил, за квартиру, ему на вино и на харчи всем троим да прокорм лошадям. Но Филя сказал:
— Не тревожьтесь, сударь, денег не на один год хватит. Я без вашего приказа обмен выгодный произвел.
— Какой обмен? Где?
— А вот извольте послушать. Как вы без ноги ставши, первые дни очень беспокойны метались, то я решился Михайлу Матвеевича просить лекаря самолучшего к вам привесть. Посадил Фому камелек топить да за вами приглядывать, а сам взял все деньги, наши и от Осипа Васильевича наследственные, чтоб дохтору тому вперед сколько ни захочет отдать, да и пошел в крепость. Слышно было, главная квартира туда перебралась. Что видел, рассказывать не стану — радуюсь, что вы не видали… Сыскал я Михайлу Матвеевича, обещались самого дохтура Стаге привесть, денег не взяли, и побежал я обратно. Бегу по улицам, стараюсь по сторонам не глядеть. Вдруг останавливает меня гренадер пьяный. Трясет перед глазами мешком порядочным — как торбы конские для овса, гремит в нем деньгами, просит на ассигнации обменять. «Замаялся, говорит, брякотину тяжелую таскавши, дай бумаг сколько-нибудь». Сунул я руку в мешок. Смотрю — всё золотые, только не наши. Говорю: «Я тебе за все дать не могу, нет у меня столько». — «Дай, говорит, рублев двести бумагой, да и бери». Я опять: «То ж золотые!» А он: «Да таких тут цельны подвалы — захочу, еще наберу, а в ранце таскать накладно». Дал ему триста рублев бумажных, только полтораста нам оставил, взял мешок и пошел. Его-то потом выкинул, он будто в крови вымаран был. А тут, в Херсоне, меняю такую монетку на наших семь рублев серебром. Меняла говорит, будто она венецейская, потому ниже нашей идет… Вот извольте взглянуть. — Филя подал Сергею золотую монетку с изображением крылатого льва. — И всего их у нас нонче пятьсот двадцать две штуки имеется.