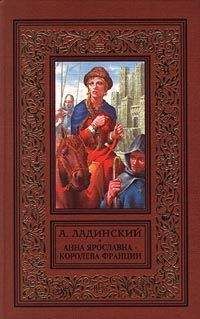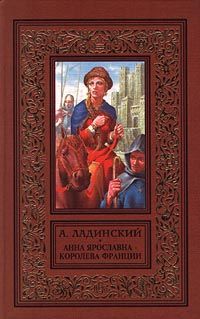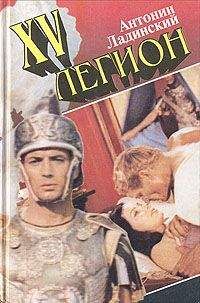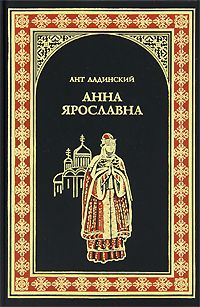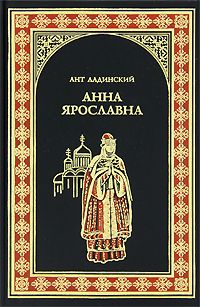Антонин Ладинский - Анна Ярославна - королева Франции
Бертран с робкой улыбкой смотрел на королеву. Менестрель никогда не видел Анну, а только слышал о ее изумительной красоте. Ему было не по себе. В обществе такой благородной дамы он никогда не посмел бы петь про грубых мужланов. На этот случай у него были припасены стихи о храбрых рыцарях, сражавшихся с драконами, чтобы освободить красавицу, о старом императоре Карле, о его путешествии в Палестину за святынями. Но прежде чем он успел настроить виелу, Анна сказала:
— Юноша, спой нам какую-нибудь песню про любовь!
Обратившись к своему сеньору и как бы спрашивая его совета, Бертран предложил:
— Не спеть ли мне песню о Тристане и Изольде?
— Это ты хорошо придумал, — одобрил граф.
Бертрану стало грустно, что между ним, безвестным жонглером, и этой королевой лежит целая пропасть. Несмотря на все свое легкомыслие, на неспособность подумать о завтрашнем дне, в душе жонглер таил какую-то тревогу, отличавшую его от других людей. Бертрану страстно захотелось сделать нечто такое, что вызвало бы улыбку на устах королевы. Печальная и молчаливая, она не походила ни на одну женщину на свете, и какой земной казалась теперь ему графиня, с ее жарким телом, сильными руками и громким смехом.
— Позволь, милостивая королева, моему менестрелю спеть песню об Изольде, — сказал Рауль.
Покраснев, Бертран прибавил:
— Я ничего не знаю на земле прекраснее этой песни!
Анна дважды медленно кивнула головой. На королеве было ее любимое платье из голубой материи, с золотым поясом, небрежно охватывавшим бедра.
Жонглер поудобнее устроился на табурете. Слуги убирали остатки ужина — недоеденные куски хлеба, оловянные тарелки с колючими рыбьими костями — и звенели посудой. На столе остались серебряные чаши на высоких ножках — наследие какого-то покинувшего сей мир епископа.
Бертран старательно провел смычком по струнам. Раздались негромкие, но приятные звуки, оттенявшие красоту молодого голоса. Менестрель пропел начало повести о двух любовниках:
Твое дыхание — весенний ветер,
Слезы — соль моря,
Мысли твои — облака,
Что плывут печально по небу,
А глаза — цветы на лужайке…
У Бертрана был действительно чудесный голос, столько раз побеждавший женскую неприступность. Анна с удовольствием слушала, склонившись головою на плечо дремавшего супруга, как бы прося у него защиты в опасные минуты жизни, когда певец поет о любви и рядом сидит этот ужасный человек с синими глазами, не боящийся ни бога, ни короля. Генрих с видимым удовольствием подставляя плечо, чтобы королева могла найти опору. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может помышлять о ее ласках, но он чувствовал сегодня какое-то смятение в сердце Анны, непонятное для него: ведь все было благополучно, житницы полны зерна, и несчастные сражения уже отошли как будто в область прошлого. Однако вскоре король задремал, согретый едой и вином.
Музыка ритурнели напоминала журчанье ручейка. Бертрану хотелось сегодня превзойти самого себя. Ему поднесли с королевского стола полную чашу, но он так любил эту песню, что она опьяняла его без вина. Каждый раз он пел ее по-иному, заменяя одни образы другими, рождавшимися где-то в самой глубине сердца, куда не хотела или не могла заглянуть графиня Алиенор.
В дальнем углу сада
росло одинокое дерево,
и под ним струился ручей.
Он пробегал под замком,
под тем помещеньем,
где женщины жили,
где женщины пряли
прекрасную пряжу…
Самые простые слова: дерево, ручей, пряжа, дуб… Но кто-то дал певцу такую власть, что из этих простых слов слагалась возвышенная песня, волнующая душу. Под звуки виелы они складывались в историю о любви двух сердец. Воображение, подогретое вином и печалью, рожденной внутренней тревогой, помогало Анне представить себе и одинокое дерево в саду, и прихотливо вырезанные дубовые листья, и волны пряжи, и серебряный ручей, и шевелившиеся от движения струй зеленые водоросли, и суетливого водяного жучка. Анна припомнила вдруг запах речной воды, нагретой полуденным солнцем, когда над склоненными ивами трепещут зеленые стрекозы.
Смутно чувствуя, что он создает особый мир, в который могут проникнуть только люди, способные на нежные чувства, Бертран рассказывал в песне историю двух сердец. Но даже граф Рауль подпер кулаком щеку и в какой-то редко слетавшей к нему грусти, может быть впервые в жизни подумал, что на свете существуют более важные вещи, чем ночные набеги, охота или мытные сборы на каменных мостах.
В этот быстрый ручей
Тристан бросал кусочки коры.
Теченье несло их в жилище Изольды.
Так условленный знак
извещал королеву,
что возлюбленный ждет
ее под развесистым дубом…
Анна смотрела куда-то вдаль. Над песенным замком Тинтагель поднималась огромная зловещая луна. При лунном освещении замковые башни казались еще более молчаливыми. Король Марк спал в своей опочивальне. В саду стояла тишина. В этот час, прижимая руки к сердцу, едва живая от волнения, Изольда спускалась по лестнице и пребывала под ночными деревьями, пока звуки медного рога не возвещали о рождении розовой зари…
Менестрель пел:
Но однажды злой карлик,
что знал семь свободных искусств
и по волшебной книге
магию изучавший,
к дубу привел короля,
когда влюбленный Тристан
уже бросил кусочки коры
в стремительный ручеек.
Теперь никакая рука
не в силах была
остановить теченье событий,
чтобы Изольда могла
не прийти на свиданье…
Волнение Анны достигло предела. Граф Рауль не спускал с нее глаз, а Генрих, которому помешал дремать зазвеневший голос Бертрана, сидел с недовольным видом, — скучный человек с козлиной бородой. Нижняя губа у него жалко отвисла. Но певец позабыл о нем и даже о графе; ему казалось, что Тристан — это он сам, а королева — Изольда, и пропел взволнованно:
Боже, храни на земле
счастливых любовников!
Так всегда Анна зарождала в мужских сердцах любовь, как будто явилась в этот грубый мир с другой планеты.
6
По прошествии нескольких месяцев беременность королевы сделалась столь заметной, что Генрих оставил жену для государственных дел. Король готов был выполнить любое желание супруги и одарить ее новыми угодьями, скрепив хартию подписями графов и епископов; он весь сиял, глядя на округлявшееся чрево Анны, но теперь мог на некоторое время позабыть о супружеских обязанностях и отдать все свои силы возведению замков, чем стал пренебрегать в последние годы, а между тем вновь начинались военные тревоги.
В отсутствие короля Анна находилась в парижском дворце под наблюдением бродивших за нею по пятам приближенных женщин. Графиня Берта не спускала с королевы глаз. Анне не позволяли одной сходить по крутым каменным лестницам — таково было повеление короля, опасавшегося, что неловкий шаг может повлечь за собой падение будущей матери и тем причинить вред плоду. Но она сама со страхом готовилась к непостижимой тайне рождения ребенка, и каждое ее движение было исполнено осторожности.
Теперь королева никогда не оставалась в одиночестве и вечно выслушивала благоразумные наставления и советы не утомлять себя чтением, каковое вообще более приличествует епископам и медикусам, чем королевам. Все эти приближенные женщины смотрели на книги Анны с нескрываемым подозрением. Один бог знал, что в них написано непонятными славянскими буквами! Это весьма попахивало ересью.
По утрам Анна часто беседовала с Милонегой о Киеве, вернее, вслух представляла себе, что может происходить там, и Милонега делила эти мысли с любовью. Казалось, что у наперсницы не было своей жизни, все свои помышления она посвящала Ярославне.
Анна не стеснялась своего живота, однако не встречалась теперь даже с епископом Готье, рассказывавшим такие занимательные истории. Епископ, назначенный канцлером, составлял в круглой башне латинские хартии, изысканный слог которых обращал на себя внимание знатоков, или утешался за чтением Сенеки. Несмотря на огромное брюхо, этот человек напоминал своими речами сладкоголосого соловья среди ревущих ослов.
Однажды Милонега доложила госпоже, что ее желает видеть какой-то чужеземный купец, прибывший в Париж с Руси, по его словам — с важными известиями. Анна разволновалась и потребовала, чтобы путешественника тотчас же позвали во дворец. К ее удивлению, купцом оказался тот самый переводчик Людовикус, который сопровождал посольство, получил сполна все, что ему причиталось по соглашению, и потом исчез бесследно, заявив, что намерен теперь заняться торговлей мехами. И вот он вновь появился во дворце, такой же чернобородый, лысый, с неизменной лисьей шапкой в руках и сияющий от удовольствия, что увидел королеву. Но Анна решила, судя по невзрачному виду этого головного убора, что дела у Людовикуса далеко не блестящие.