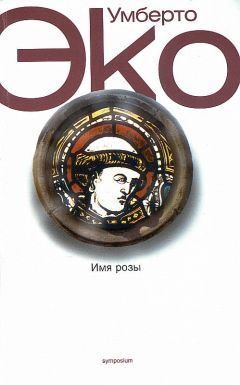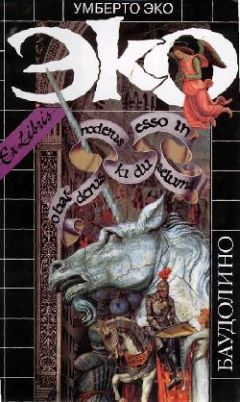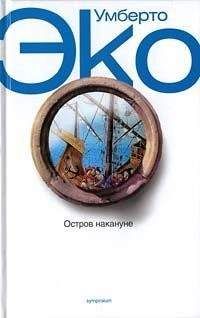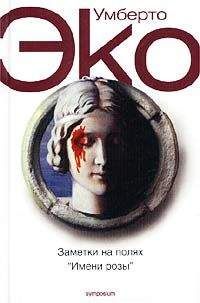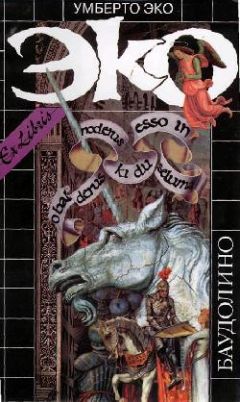Кейт Мэннинг - Мoя нечестивая жизнь
Позже Руби пришла уже сама и стала меня горячо благодарить за улучшение здоровья и за прочие улучшения, как она выразилась. Ее муж проштудировал все Чарлзовы брошюры.
– Мы пойдем по французскому пути! – возгласил он. – Нам хорошо с нашими четырьмя, и мы не хотим, чтобы их стало больше.
Если бы такие счастливые финалы ждали каждую женщину, переступавшую наш порог! Так нет ведь, одна-две из них кончили жизнь точно так же, как бедная Корделия Парди, но у меня нет сил вспоминать эти истории.
Глава пятая
Опекун
Корделия была маленькая и худенькая, с гривой густых черных волос, торчавших из-под шляпки. Я бы дала ей лет шестнадцать, не больше. Когда я провела ее в свой кабинет, она даже не глядела на меня, нервная и пугливая, будто птичка.
– Все, что я скажу, останется между нами? – чуть слышно спросила она.
– Моя дорогая миссис Парди, вашу тайну похоронят вместе со мной.
Она вздохнула и передернула плечами каким-то детским движением.
– Мой муж отправил меня сюда из Нью-Хейвена… чтобы сделать… аборт.
Это слово она произнесла до того тихо, что я еле расслышала.
– Так, значит, у вас есть еще дети?
– У нас нет детей. – Она зябко поежилась и яростно откусила заусениц. – Вы никому не расскажете?
Я кивнула.
– О, мадам, – зарыдала она, – я ему не жена, хотя и прозываюсь миссис Парди.
– Понимаю.
– Нет, боюсь, что не понимаете. Он… мой дядя. Я его племянница и подопечная.
– Подопечная?
– Да, но он представляет меня как свою жену. Меня зовут Корделия Шекфорд, но он называет меня миссис Парди.
– Так он ваш опекун?
– Он скоро женится на мне. Он обещал. Он хорошо ко мне относится.
– Вижу, как хорошо, – вздохнула я. – На каком вы месяце, моя милая?
– Самое большее на третьем.
– Вы раньше таблетки принимали?
– Мне от них плохо. Он говорит, нужна операция. И как можно быстрее.
– А вы согласны на операцию? Или того хочет ваш опекун, пытающийся спрятать свой позор?
– Это мой позор! – закричала она. – Он ясно сказал. Если я не сделаю того, что требуется, он распустит слух, будто я распутничаю с солдатами. А это неправда. Дядя Джордж говорит, что любит меня, но не может допустить скандала, так что новой операции не избежать.
– Новой?
Она отвела глаза.
– Раньше я обращалась к миссис Костелло. Дважды. Если откажусь, он вышвырнет меня вон и никогда не женится, так он пригрозил. Я увидела вашу рекламу в газете, да еще одна девушка у Костелло сказала, что вы из порядочных.
– Три аборта! По вашему опекуну застенок плачет.
– А если бы он сдержал обещание? Что со мной было бы?
Я села на кушетку рядом с девушкой, обняла за худенькие плечи. От нее пахло сиренью. Ноги у нее были маленькие, крошечные туфли на пуговках. На безымянном пальце желтело плоское кольцо.
– Это он подарил, – сказала она, – чтобы я могла представляться его женой и сплетен не пошло.
– Где твоя мама, доброе мое сердечко? – мягко спросила я.
– Она умерла, когда мне было четырнадцать. Два года тому назад.
– И моя умерла.
Мы помолчали, вспоминая своих матерей. Будь они живы, этот разговор никогда бы не состоялся.
– В своем завещании, – сказала Корделия, – она назвала моим опекуном мистера Парди. Чтобы обеспечить мое образование.
– И он его обеспечил, старый хрен, только не то, на какое рассчитывала твоя мама.
– Говорю вам, он обещал жениться на мне. Через два года, когда мне исполнится восемнадцать.
– Это и твой выбор тоже?
– Выбора не было вообще. Я должна поступать, как он скажет.
– Ну ладно, – тяжко вздохнула я. – Приходи с деньгами завтра после обеда, милая, и я избавлю тебя от беды.
– Спасибо, мадам.
Она накинула на плечи гиацинтовую шаль и исчезла.
На следующий день ближе к вечеру Корделия лежала на кушетке, я сидела рядом.
– Все хорошо, доброе сердечко? То есть ты уверена? Она кивнула, порылась в сумке, достала деньги и протянула мне. Слабо улыбнулась.
– Брось грустить, любовь моя. Ты прехорошенькая, и у тебя будут красивые дети. Непременно будут.
– О, мадам, молюсь, чтобы ваши слова сбылись.
– Будем надеяться, ты встретишь хороших людей. – Я погладила ее по волосам, провела пальцами по нежной щеке. – За дело, Корделия. Боюсь, мне придется воспользоваться зондом.
– Я знаю.
– Крепись, девочка.
– Я постараюсь.
Случай был тяжелый. Зонд не проходил в канал. Мешали рубцы – последствия деятельности миссис Костелло. Бедная девочка впилась зубами в кусок сыромятного ремня, который я ей дала. На полпути она потеряла сознание. Паника стиснула мне горло, страх запульсировал в крови, заставил сердце биться чаще, потом выступил на ладонях. Эта процедура никогда не была для меня легкой, хотя я четко представляла себе как весь ход операции, как и что делать в каждый конкретный момент. А моменты случались разные, и в любую секунду могло произойти непоправимое.
Хорошо бы под рукой у меня имелся магический эликсир, который бы отправлял моих бедняжек в краткое небытие на срок, достаточный для операции. Но ничего похожего у меня не было, и пациенткам оставалось только страдать. Так я закалила свое сердце до твердости бразильского ореха или фундука особого сорта, расколоть которые можно только молотком. И хотя Корделия плакала, сердце мое не раскололось.
– Успокойся. Тише!
Я была резка с ней, как была бы резка с каждой. Хотя во мне в то время было меньше девяноста фунтов, мои подопечные знали: я в ответе за них в эту минуту. Они, лапочки мои, не знали другого: одно неверное движение – и ты на том свете.
– Прекрати! – потребовала я, когда она перешла на пронзительный визг.
После моего окрика она лишь хныкала. Окончательно вымотавшись, я ее побаловала. Я их всех баловала, но ее в особенности, потерянную душу, которую опекун совсем не опекал. Я укрыла Корделию одеялом:
– Передохни, macushla.
Так меня называла по-ирландски мама. Дорогая. Я поцеловала ее влажный лоб, пригладила волосы, принесла мятного чаю и свежие простыни. Она выпила чаю, и ее вырвало. Я усадила ее в кресло, подставила таз, она согнулась пополам. Заплакала. Я обняла ее, зашептала ласковые ирландские слова: wee babby, girleen, aroun machree.
– Деточка моя, – приговаривала я, хотя она моложе-то и была всего лет на десять.
На ее месте могла быть Датч, думала я. Какая-то затравленность проглядывала в ней, я почему-то чувствовала, что это я – ее опекун.
– Кровь сильно течет, – пожаловалась она.
Ночь я провела подле ее кровати в палате. К утру у нее поднялась температура. Губы были сухие и запекшиеся.
Я была уверена, что она умрет.
Лихорадка трепала нашу маленькую Корделию еще два дня. Все это время я не видела мою Белль, только попросила медсестру Сэлли отнести малышке пирожное – извиняясь за свое отсутствие. Я представляла, как переживает моя пятилетняя девочка, что мамы нет, что некому спеть ее любимую shoul aroun. И принялась напевать эту песенку Корделии. Мы с Гретой не знали отдыха. Компрессы. Ведра. Простыни.
– Мама! – позвала она и разрыдалась в моих объятиях.
Мы ее потеряем, стучало у меня в голове. Какие у нее тонкие косточки, невесомые почти. А как плотно кожа обтягивает лицо…
На второй день я отправила Грету к аптекарю за пиявками. На фоне белой кожи пациентки они казались почти черными, в палец толщиной, хорошо, что бедняжка их не могла видеть. Но дело свое пиявки знали и старательно сосали из нее лихорадку. А она не двигалась. Руки безвольно повисли, ноги отказали. Когда на третий день я пропальпировала живот, он был напряжен. В воздухе стоял мускусный запах старой крови.
– Придется еще раз применить зонд, – сказала я Грете, а про себя подумала: и провести еще одну ночь вдали от моей девочки.
На следующее утро Корделии стало лучше. А еще через день лихорадка отступила. Мы помогли девушке сесть в кровати. Кожа землистая, покрытая потом…
– Если он и сейчас на мне не женится, – прошептала Корделия, – я убью себя.
– Ох, милая, не забивай ты голову всякой чепухой.
– Убью.
– Нет уж, прекрати, пожалуйста. Ты вернешься сюда, агнец. Ты придешь сюда, если тебе понадобится помощь. Что бы ни случилось. Дверь Мадам для тебя всегда открыта.
Не знаю, зачем я это сказала. Конечно, не следовало. Неизвестно, чем твое слово обернется потом. Но я сказала. Дверь Мадам для тебя всегда открыта. Через мой кабинет прошли целые толпы девушек, юных и прекрасных, в столь же отчаянном положении, что и Корделия Парди. Но ни одной из них я таких слов не говорила. Ее сиротство. И эти черные волосы, собранные в узел. Все это напомнило мне о Датчи, о моем детстве. И мне представилась сестра – вот она в Вене, танцует вальс с кайзером, а может, вернулась в Чикаго, веселится со своей аристократической компанией.