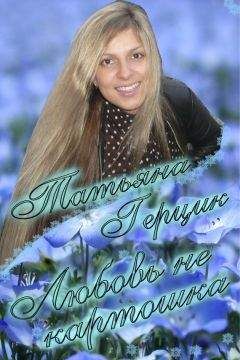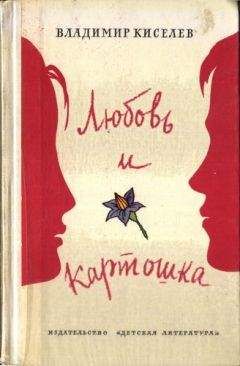Илья Сельвинский - О, юность моя!
— Елисей!
Леська открыл глаза. Было уже утро, и Автоном Иваныч, одетый и даже выбритый, взывал к Леське, стоя над его постелью.
— Надо идти в Караджу. Четыре версты. Возьми на дорогу вот это: штоф пейсаховки. Все замки открывает.
В Карадже нашли рыбака, хозяина баркаса, который собирался в Севастополь за керосином для всей деревни. Но старый кливер совсем истрепался, хозяин шьет новый. Как наладят, так и пришлют за Леськой.
Через два дня на маяк прибежала дочка хозяина баркаса — Зинка. Было ей лет шестнадцать. Стоял черный туман, и покуда Автоном Иваныч налаживал сирену, Леська бил в колокол: два сильных подряд и пауза, два сильных и снова пауза.
— Это ты Бредихин? — спросила Зинка.
— Я.
— Отец сказал, чтобы ты пришел: утром надо сниматься с якоря.
— А как же туман?
— Вот и хорошо, что туман: не заметят. У нас ведь мотора нет.
— Спасибо. Приду.
Но девчонка не уходила.
— Дай мне разочек позвонить, — попросила девчонка.
— Звони.
Зинка принялась работать.
— Слабо бьешь, — сказал Леська. — Давай я.
— Ну, еще немножко! Ну, минуточку! Миленький... Только минуточку.
Леська, ясное дело, разрешил. Этот «миленький» заставил его вздрогнуть. У девчонки были теплые карие глаза и яркая улыбка.
«Ну вот. Начинается!» — подумал Леська с досадой и страхом.
— Хватит!
Зинка, вздохнув, отдала веревку. Теперь зазвонил Леська. На пороге дома стояла старушка № 2 и видела их работу.
— Елисей! — закричала она. — Обедать!
Леська быстро передал веревку, но тут же спохватился: Елисавета Автономовна Зинку не пригласила, и Леське стало неудобно, — как это он пойдет в дом обедать, а девочка останется на улице? Нехорошо.
— Елисей! Я сказала: обедать!
— Нехочу-у!.. — крикнул Леська. — Я не го-о-олоден!
Старухи сели за стол со шпицем, который важно восседал на стуле и оживленно глядел черными глазами поочередно на одну и другую, хотя со стола ему никогда ничего не давали.
Сирена сегодня работать почему-то не хотела. Старик возился с ней довольно долго, старушки ждали его к столу, а с улицы доносился звон: то сильный — это бил Леська, то слабый — Зинка. Этот колокольный дуэт выводил из себя старушку № 2. Она сидела вся красная.
— Слава богу, что Елисей не обедает. По крайней мере не будет петь.
— Но ведь тебе так нравилось его пение!
— Мне? Ничего подобного!
Старуха № 1 была ошеломлена.
— Лиза! Дорогая! Но ведь ты все время сравнивала его с Шаляпиным.
— Ну и что? Я всегда терпеть не могла Шаляпина.
Елисавета Автономовна в сердцах швырнула на стол салфетку и ушла в свою комнату.
Хвала аллаху, не дождавшись утра, Леська взял свой вещевой мешок и пошел к воротам. Автоном Иваныч проводил его до ограды.
— Каценеленбоген... сказал он задумчиво на прощанье.
— Ничего! — ответил Леська. — Люди и в Турции живут.
Он обнял старика и вскоре исчез в тумане. Автоном Иваныч вернулся в дом, расставил фигурки на шахматной доске, двинул пешку и сказал:
— Бредихин.
В Карадже баркас уже пришвартовался к пристани. Но было еще рано. Леська уселся на свернутых канатах и принялся ждать. Ждать он умел. Ему никогда не бывало скучно: он всегда думал о Гульнаре.
Прибежала Зинка. Вскоре загремели рыбацкие сапоги, и баркасник позвал Елисея к трапу.
— Будешь мне писать? — жарким шепотом спросила Зинка.
— Зачем?
— А так. Страсть люблю письма читать.
— А я ненавижу писать письма.
Леська кивнул ей и взошел на баркас. Выбрали якорь, подняли кливер, и судно стало медленно уходить в туман. А на пристани стояла маленькая фигурка и быстро отъезжала. Гораздо быстрей баркаса. Леська так и не понял того, что если не он сам, то колокольный перезвон был первой ее любовью...
В Севастополь пришли благополучно. Баркас тихо проплывал мимо огромного французского крейсера «Жан Бар». Вахтенный напевал какую-то шансонетку. Это удивило Елисея: по-видимому, на боевом корабле не все винты принайтованы намертво.
— Qui est ça? — окликнул их вахтенный.
— Poissoniers, — ответил Леська.
Леська ошибся: надо было сказать pêcheurs, — но ошибка прозвучала гораздо более солидно[5].
— Воn, bоп, — отозвался вахтенный и снова запел свою шансонетку с весьма фривольным текстом:
Elle est tres ex-tra-va-gante,
Elle est pipi,
elle est caca — elle est picante...
Леська вступил на берег.
«Ну вот, — подумал он. — Я в Севастополе. Снять номер не смею, пропуска в этот военный город у меня нет. Интересно, как я выйду из положения?»
Он по-детски подумал о чуде, вспомнил о китайце Ван Ли и успокоился. «Человек не пропадает» — это он усвоил крепко.
Леська шел по городу. Каждый поворот, каждое здание напоминало о знаменитой обороне против англо-франко-сардинской коалиции. Каждый камень звучал о геройстве русских моряков. Но вот пришло время — и снова на рейде, как победитель, стоит французский крейсер. Чего стоит кровь предков, о которых кричат все эти памятники, монументы, братские кладбища, названия улиц с наименованием бастионов?
Но все-таки надо было где-нибудь обосноваться: весь день ходить — не выход, да и можно привлечь к себе внимание белогвардейцев: почему такой здоровяк не на фронте?
И вдруг... Нет, он не встретил своего друга, не нашел на земле пропуска или хотя бы денег. Он увидел над узкою дверью какого-то невзрачного двухэтажного домика вывеску: «Адвентисты седьмого дня». Леська вспомнил Устина Яковлевича и постучался.
Открыл ему смахивающий на моржа, тучный, бритоголовый дядя, одетый в белую и длинную, как саван, рубаху.
— Кого надо?
— Здесь живут адвентисты?
— Здесь молельня.
— А вы проповедник?
— Сторож я. А что?
— Адвентист?
— Ну да.
— Я тоже адвентист.
— И что же с этого?
— А то, что мне негде жить и я хочу остановиться у вас.
— У нас не гостиница.
— Ах, вот как адвентист отвечает адвентисту! Хорошее же у вас представление о христианстве!
— Да ведь негде у нас: мы вчетвером в одной комнате.
— Я могу и в молельне.
— Не полагается в молельне: еще клопов разведешь. Да ты сам откуда будешь? Что за человек?
— А вы впустите сперва, а потом и спрашивайте.
Леська отодвинул моржа в сторону и взлетел по лестнице на второй этаж.
— Постой, постой... Ты куда? Как смеешь?
Сторож, отдуваясь и хрипя, подымался за Леськой.
Леська вошел в молельню. Это была большая, грубо выбеленная комната с кафедрой и семью рядами скамей.
«Суровый народ адвентисты», — подумал Леська.
Из двери, ведущей в соседнюю комнату, вышла женщина с двумя детьми.
— Здравствуйте! — сказал Леська.
Женщина не ответила. Детишки в испуге спрятались за ее спиной и выглядывали оттуда со страхом и любопытством. Между тем морж наконец добрался до Леськи. Булькая и переливаясь, как испорченная шарманка, он подошел к Леське и схватил его за грудки.
— Я тебя сейчас со всех ступенек...
— Женщина! — сказал спокойно Леська. — Если этот человек порвет на мне рубаху, он потеряет место. Что это за адвентизм — избивать прихожан?
— Отпусти его, Пшенишный, — сказала женщина.
— Да откуда же я знаю, что он прихожанин? Я его никогда и в глаза не видел.
— А может, он агитатор? — сказал мальчик.
Женщина восхищенно засмеялась:
— Умен, как поп Семен.
— Я из Евпатории. От Устина Яковлевича Комарова.
— Не знаю никакого Яковлевича. Да и почему это я должен верить? Чем докажешь?
— Чем? Ну, спою вам адвентистские песни.
— Пой!
Пшенишный присел на скамью и, подбоченясь, приготовился слушать, точно профессор консерватории.
Леська откашлялся и не своим голосом запел псалом, который слышал от Устина Яковлевича:
Мы все войдем в отцовский дом
И, может быть, уж вскоре.
Как счастлив тот, кто в дом войдет!
Рассейся, грех и горе!
— Ну, что? Теперь верите? А еще вот эту послушайте:
Осанна божью сыну,
Ибо он так любит нас!
Соблюдайте ж, как святыню,
Свыше данный нам наказ.
— Что вы от нас хотите? — спросила женщина.
— Хотя бы переночевать. Вот тут. На скамейках.
— Но вам тут будет жестко.
— Мне везде жестко.
Эта грустная фраза окончательно покорила женщину.
— Ну, зачем ты упрямишься, Пшенишный? Пусть человек переночует. Проповедник же, право, ничего худого не скажет.
Потом снова обратилась к Леське:
— У вас что, денег нет на гостиницу?
— В том-то и дело.
— А зачем тогда приехал? — хмуро спросил Пшенишный. — Чего тебе тут нужно, в Севастополе?